ганижанова курсовая. Курсовая работа Своеобразия проза Л. Улицкой. Роман Медея и её дети содержание введение
 Скачать 103.35 Kb. Скачать 103.35 Kb.
|
1 2 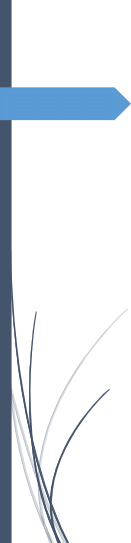  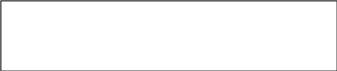 Ферганский государственный университет Филологический факультет Направление русский язык и литература Ганижанова Нилуфар  Курсовая работа Своеобразия проза Л.Улицкой.Роман «Медея и её дети» СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………....3 ГЛАВА 1 Художественное своеобразие романа Л.Улицкой «Медея и ее дети»……………………………….5 Мифологизм романа……………………………………...5 Жанровые особенности романа…………………………7 ГЛАВА 2 Образ матери в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети»…………………………………………….10 2.1 Концепт «семья» в романе………………………………10 2.2 Образ матери в романе…………………………………..13 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………29 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………..31 Введение Актуальность исследования. В поле зрения литературных критиков творчество Л. Улицкой попало в 1990-е годы. Именно тогда произведения писательницы стали предметом активного обсуждения в критических статьях, а также в различных интернет-форумах. Тематика исследований творчества Л. Улицкой обширна: ставится вопрос о соотношении мифологического и реального в первом романе писательницы «Медея и ее дети» (С. Тимина, Т. Ровенская, Т. Прохорова); рассматривается внутренний мир героев повести «Веселые похороны» (М. Карапетян, В. Юзбашев, Е. Щеглова); выявляются особенности хронотопа романа «Казус Кукоцкого» (И. Некрасова, Г. Ермошина, В. Скворцов); анализируется смысл заглавий романов (Н. Лейдерман и М. Липовецкий) и др. В целом лишь в последнее время начало формироваться основательное осмысление вклада Л.Улицкой в современный литературный процесс. Работы, посвященные ее творчеству, по-прежнему нередко сводятся к критическим публикациям в периодике, но появляются – пусть недостаточно полные – обзоры в учебных пособиях по современной русской литературе: «Русская проза конца XX века» Г.Л. Нефагиной, «Русская литература XX века. Школы, направления, методы творческой работы» под редакцией С.И. Тиминой, В.Н. Альфонсова, «Современная русская литература: 1950 – 1990-е годы» Н.Л. Лейдермана и М.Н. Липовецкого и др. Несмотря на то, что работ об Л. Улицкой немало, в основном они носят литературно-критический характер. Научного же осмысления в полном объеме ее проза еще не получила. Сказанное выше определяет актуальность темы курсовой работы. Объектом исследования выступает произведение Л. Улицкой «Медея и ее дети». Предметом анализа является образ матери в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». Целью настоящей работы является анализ образа матери в романе Л.Улицкой «Медея и ее дети». Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач : – определить и проанализировать проблематику, систему мотивов и образов, наиболее значимых для романа Улицкой; – выявить способы создания образа матери в романе «Медея и ее дети»; – исследовать особенности поэтики романа Л. Улицкой «Медея и ее дети». Практическая значимость работы. Материалы и результаты курсовой работы могут быть использованы при разработке занятий по современной русской прозе, спецкурсов по русской литературе конца XX – начала XXI в., школьных факультативов. Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы. ГЛАВА 2 Художественное своеобразие романа Л.Улицкой “Медея и ее дети” 1.1 Мифологизм романа Понятие мифа значительно расширилось в научной парадигме сегодня, мифологизм становится основной чертой поэтики романа Л.Улицкой «Медея и ее дети». Мифологическое сознание проявляет себя на сюжетном, образно-символическом и пространственно-временном уровнях. В «женской» прозе особое значение отводится мифу о Медее. Раньше других представительниц современной «женской» прозы к мифопоэтическому образу Медеи обратилась Л. Петрушевская, ее рассказ так и называется «Медея» (1989). Правда, в характере и в конфликтной ситуации видится не столько типичная для древнего мифа роковая предопределённость судьбы героини, но и дань постмодернистской эстетике с ее ориентацией на «сдвинутых» обитателей «сдвинутого» мира. Л. Улицкая пытается вывести свою героиню из жизненного и «постмодернистского» одиночества: само название романа «Медея и её дети» полемично по отношению к рассказу Л. Петрушевской. Бездетная героиня Л. Улицкой, в отличие от Медеи и мифической, и созданной Л. Петрушевской, всю жизнь ухаживала за чужими детьми. Если Петрушевская только названием напоминает читателю о древнем мифе, то перекличка с древнегреческим мифом в романе Улицкой более развернута: главная героиня от рождения носит это имя, в ее портретной характеристике проступают черты античной богини, она обладает неким чудесным даром, ее мышление мифологично. Мифологический сюжет заложен и в истории семьи Синопли: словно возрождая основной момент коринфского эпоса, мать Медеи Матильда бежала из Батуми, чтобы выйти замуж за грека Георгия Синопли. Сама Медея была названа в честь своей тифлисской тетки. Грузинское происхождение имени и вплетение его в греческую «основу» семьи также не выходят за рамки традиционного мифа: Медея – последняя «чистопородная гречанка в семье, поселившаяся в незапамятные времена на родственных Элладе таврических берегах» [21: 5]. Символическое значение имеет образ дома Медеи – это своеобразный аналог «пупа земли». Как мифопоэтический символ «пуп земли» связан с мотивом родового места, местом происхождения человечества. В романе проводится мысль о существовании общей для всех прародины на берегу моря, поэтому члены семьи Синопли ежегодно возвращаются к своему историческому истоку. В гостеприимном доме преемственность поколений не нарушается даже после смерти героини. «Пуповинность» дома Медеи необходимо рассматривать не только как мифопоэтический центр, но и в библейском контексте, как Храм Господень – религиозный и культурный центр. «Семейная хроника» Улицкой превращается в семейную мифологию. Если сюжет античного мифа о Медее связан с разрушением семьи, то героиня Л. Улицкой – хранительница семейного очага. Она представляется своеобразной анти-Медеей: ее образ обращен к свету, в нем нет ни мстительности, ни неудержимой страсти. Мифологическое начало присутствует и в других персонажах романа Улицкой. Но все они «мельче» Медеи, чей образ постоянно ассоциируется с мифом, заставляет все время вспоминать о нем. Сандрочка – ее образ в романе изменчив и непостоянен, что вызывает ассоциации с мифологическими океанидами. Помимо «морского» начала, в Сандрочке у Улицкой чувствуется и плодородная сила Деметры. Георгий – духовный наследник Медеи. Как никто другой он привержен семейной мифологии и медеиному внутреннему закону. Символика преемственности заключена в самих именах героев. С его образом в романе связан и мотив странничества, он кажется окружающим Одиссеем. Не лишены мифологической составляющей и образ Ники (в греческой мифологии Ника – «персонификация победы», дочь Океаниды Стикс), и образ Маши, восходящий к Гекате, способной различать суть явлений, не доступных обычному глазу. Машина тяга к подсознательному и ее гибель, с одной стороны, подтверждают, что Л. Улицкая работает в постмодернистской манере, а с другой – свидетельствуют об ориентации писательницы на традицию, открытую И. Буниным: «трагический катастрофизм». Мифологический параллелизм становится инструментом структурирования повествования, он позволяет писательнице взглянуть на жизнь современников с точки зрения Вечности. Семья представляет собой комплексное социальное явление, в котором сплелись воедино многообразные формы общественных отношений и процессов и которому присущи многочисленные социальные функции[7]. Трудно найти другую социальную группу, в которой удовлетворялось бы столько разнообразных человеческих потребностей, в которые разворачиваются основные процессы человеческой жизни и которая настолько связана с жизнью каждого человека, что накладывает отпечаток на все его развитие. Именно в семье обеспечивается физическое и эмоциональное развитие каждого человека. В младенчестве и раннем детстве семья играет определяющую роль, которая не может быть компенсирована ничем другим. В детском, младшем школьном и подростковым ее влияние остается ведущим, но перестает быть единственным. Затем роль этой функции семьи уменьшается. Кроме того, семья имеет важнейшее значение в овладении человеком социальными нормами. Именно в семье проявляются фундаментальные ценностные ориентиры человека, проявляющиеся в социальных отношениях, а также определяющие его стиль жизни, сферы и уровни притязаний, жизненные устремления, планы и способы их достижения. К.Д. Ушинский, основоположник педагогики в России, отмечал особую роль семьи в воспитании детей. Природные русские педагоги – бабушки, матери, деды – понимали инстинктивно и знали по опыту, что моральные сентенции приносят детям больше вреда, чем пользы, и что мораль заключается не в словах, а в самой жизни семьи и ежеминутно проникает в душу ребенка. Школы-интернаты и детские дома не дают детям родительской любви и ласки и формируют черствые, озлобленные личности. Человек приобретает ценность в обществе только тогда, когда он становиться личностью. Становление же ее требует целенаправленного систематичного воздействия. Именно семья с ее постоянным и естественным характером воздействия призвана формировать черты характера, взгляды, убеждения и мировоззрения ребенка. Множество произведений мировой литературы, шедевры древнего эпоса посвящено семье и любви. Вся русская литература середины XIX века задается вопросом правильной жизни семьи. Авторы ставят своих героев перед выбором между семьей и любовью, долгом и личными интересами. Катерина из «Грозы» А.Н. Островского, Анна Каренина из одноименного романа Л.Н. Толстого стоят в центре мучительных споров о праведности семьи и ее лживости. Браки в то время все больше становились фиктивными, то есть заключались в целях освобождения женщины из неволи и постепенно утрачивали свой первоначальный смысл. Сохранение видимости верности было важнее самой верности. Для литературы начала ХХ века свойственно возрождение утраченного единства и целостности. Неслучайно все больше писателей обращают внимание к поэзии погибающей семьи. Это становится основным пафосом пьес А.П. Чехова, «Других берегов» В.В. Набокова, «Белой гвардии» М.А. Булгакова, «Доктора Живаго» Б.Л. Пастернака, и вообще всех писателей первой волны эмиграции. После революции в России тема семьи отходит на второй план, но не исчезает из литературы. Большевистские опыты над жизнью общества и человека приносили ужасные плоды. Уродливый быт, торжество физиологических теорий выведены в романах-антиутопиях (например, роман Е.И. Замятина «Мы»). Образ дома и семьи в русской литературе ХХ века становится одним из ведущих. Именно через отношения в семье многие современные писатели передают свое ощущение от окружающей их действительности. 1.2 Жанровые особенности романа Л. Улицкой «Медея и ее дети» Во второй половине XX в. жанровые изменения становятся яркой особенностью историко-литературного процесса. Жанровые трансформации романа приобретают разнообразный характер: роман-житие, роман-сага, роман-хроника и т.д. Во многом это связано с воздействием постмодернизма на литературу. Творчество Л. Улицкой в какой-то мере тоже ему подвержено. Однако на первый план в ее прозе выступает классическая повествовательная традиция, напоминающая о канонических жанрах. Среди них семейная сага и семейная хроника, на которые ориентированы «Детство Багрова-внука» С. Аксакова, «Суходол» И. Бунина, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, а также «Московская сага» В. Аксенова. Роман Л. Улицкой «Медея и ее дети» явно ориентирован на семейную хронику, признаком которой является изложение исторических событий, определенной социальной среды, влияющей на судьбу народа и судьбы персонажей. Однако, в отличие от классических образцов семейной хроники, в современном романе историческое время не является главной движущей силой сюжета. Значит, современный роман не выдерживает всех жанровых канонов семейной хроники. Поэтому Л. Улицкая ориентируется на традицию не только романа-хроники, но и романа-саги, в основе сюжетной канвы которой − родовые распри, приводящие к трагическому финалу, крушению семейного уклада. Классическим образцом семейной саги в мировой литературе является «Сага о Форсайтах» (1906 – 1928) Д. Голсуорси. В отличие от западной литературы для русских прозаиков наиболее характерен жанр семейно-бытового романа, а не семейной саги. На данный жанр ориентирован роман Л.Н. Толстого «Семейное счастье» (1859). Если в романе Толстого речь идет о новой жизни в кругу своей семьи, то современные писатели пытаются охватить более широкое пространственно-временное поле (судьбы нескольких семей, поколений, исторический фон), запечатлевая не только частную жизнь людей, но и события национально-исторического масштаба, что выходит за рамки семейно-бытового романа. Это заставляет вспомнить о семейной саге, в частности о «Московской саге» (1993) В. Аксенова, где жанровое определение вынесено в заглавие. В отличие от Аксенова, задача Улицкой – не исторический экскурс, а проблемы «бытия». Необходимо заметить, что современные литературоведы (А. Николюкин, С. Кормилов, Ю. Борев), давая определение понятия «сага», опускают один из признаков рассматриваемого жанра, о котором в «Кратком словаре литературоведческих терминов» (1963) писали Л. Тимофеев и Н. Венгеров: «Сага – историческая или героическая повесть, рассказ, сказка, написанные прозой со стихотворными вставками ». Данный признак наблюдается в романе Улицкой: повествовательная ткань произведения прерывается стихотворными вкраплениями. Помимо элементов семейной хроники и семейной саги, в романе можно обнаружить «приметы» жанра жития. Житийный жанр интересен Улицкой, прежде всего, бытийными реалиями: человек соотносится не только с жизнью общества, но и с космическими началами. Все это находит отражение в образе романной Медеи, которая, как и герои жития, устремлена к идеалу праведничества и святости, она смиренно несет свой жизненный крест. Таким образом, роман Л. Улицкой «Медея и ее дети» – «синтетическое» жанровое образование, вбирающее в себя признаки семейной хроники, семейной саги, жития, что свидетельствует не столько о постмодернистском стремлении к «размыванию» жанровых границ, сколько о желании писательницы подчеркнуть: история не движется сама по себе, она проходит через человеческие судьбы. Уцелеет ли человек под «напором» истории – это зависит от семьи, а семейное счастье, во многом, – от женщины. ГЛАВА 2 Образ матери в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети» 2.1 Концепт «семья» в романе Анализ значений концепта и их языковых репрезентантов в романе «Медея и ее дети» показал, что основным содержанием концепта «семья» в индивидуально-авторском решении выступает образ семьи как отдельного, не зависимого от внешнего, своего мира, мира семьи со своими законами, традициями, обычаями и правилами: «Это был один из обычаев дома: после захода солнца не ходить к колодцу» // «…и другие необъяснимые законы всеми жильцами строго соблюдались…» // «Это была еще одна семейная традиция — кормить детей за отдельным столом» [22: 278]. Свой мир — это Медея, ее родственники и все, что с ними связано; это оберегаемый и хранимый мир понимания, любви и душевной близости. Основными знаками-репрезентантами значения «свой мир» выступают лексемы свой, семья, любить, жизнь семьи, теплая дружба, радоваться: «Он видел здесь…веселую любовь детей к матери и теплую дружбу между всеми» // «…и Ника почувствовала себя главой большой семьи с дочкой Машей и кучей игрушечных внучек» // «Лиза с Аликом тоже страстно любили друг друга…» // «…у нее (Норы, не родственницы Медеи) перехватило дух от неожиданной зависти к людям, которые так радуются друг другу и так празднуют свою встречу» [22: 278]. Мир чужой — это власть, политические и общественные события в стране; это отнюдь не враждебный, не противопоставленный своему миру мир, а нечто настолько стороннее, неважное, что никак не может повлиять на прочность своего мира, не может его разрушить; это мир, с которым свой мир не соприкасается и от которого держится в стороне вовсе не из-за страха перед ним, а из-за отсутствия к нему интереса. Основными знаками-репрезентантами значения «чужой мир» выступают лексемы власть, чужой, чуждый, равнодушный: Медея «…с ранней юности…привыкла политическим переменам относиться как к погоде — с готовностью все перетерпеть…» // Все, что происходило в стране было для Медеи «…отдаленным гулом чуждой жизни» // « …лето сорок шестого года осталось временем их(Медеи и Сандры) самой полной сестринской близости…» // «Для нее(Медеи) все власти равны…Что для нее власть? Она верующий человек, другая над ней власть. И не говори никогда, что она чего-то боится…» // «В тот же день объявили о болезни Сталина, а через несколько дней и о смерти. Медея…оставалась вполне равнодушной к этому событию» // «…в нашей семье есть одна хорошая традиция — держаться подальше от властей» [22: 278-279]. Центром мироздания семьи, важной знаковой фигурой является образ главной героини романа — Медеи. Не случайно в связи с этим и название произведения — «Медея и ее дети». Интересно, что своих собственных детей у Медеи нет. Значение знака «дети» в данном случае является не столько системным, сколько актуальным — это многочисленная Медеина родня: младшие братья и сестры, которых она растила после смерти родителей, и многочисленные племянники и внучатые племянники. Не будучи матерью, Медея выполняет функцию материнства по отношению ко всей свой родне (даже к собственному мужу). Именно с этой материнской функцией Медеи и связано в данном романе значение знака «дети». Медея как центр семейного мира — символ ее прочности, вечности, непоколебимости чужим миром. Репрезентантом данных значений является в романе знак «дерево»: «…жизнь, которая сама по себе стремительно и бурно менялась…, придала в конце концов Медее прочность дерева, вплетшего корни в каменистую почву, под неизменным солнцем…» [22: 279]. Более того, содержание концепта «семья», включающее в себя такие составляющие, как: «пространство» семьи, «время» семьи, состав семьи, взаимоотношения в семье, наполняющиеся индивидуально-авторским значением и реализующиеся в выборе определенных знаков-репрезентантов, — так или иначе связано тоже с образом Медеи. Так, например, «пространство» семьи — это вполне определенное, значимое место, где собираются родственники и где они чувствуют себя комфортно, в своем мире. Знаками этого своего пространства являются Крым, Крымская земля, вся округа, дом Медеи, кухня, причем сама Медея не просто существует в этом своем пространстве, она — неотъемлемая его часть, сроднившаяся с ним и принятая в это пространство как своя: «Для местных жителей Медея Мендес давно уже была частью пейзажа» // «Крымская земля всегда была щедра к Медее, дарила ей свои радости» // «Своими подошвами она чувствовала благосклонность здешних мест» // «…прожаренный солнцем и продутый морскими ветрами дом притягивает все это разноплеменное множество — из Литвы, из Грузии, из Сибири, из Средней Азии» // «Здесь (в доме Медеи) народу собирается тьма! Мендесихина родня» // «…взрослые расселись на Медеиной кухне пить чай. Хотя все устали, расставаться не хотелось» //племянник Георгий: «Только здесь я чувствую себя дома» [22: 279]. К примеру, содержательная составляющая концепта «время» семьи — это, с одной стороны, летний сезон, когда съезжаются родственники, время суток, отмеченное делами Медеи и ее семьи (знаки: лето, утро, день, вечер, ночь), с другой стороны, — это связь времен, поколений рода Синопли, центром этой связи опять же является Медея, образ которой соединяет в себе нити и прошлого, и настоящего, и будущего. И с этой точки зрения «время» семьи не имеет границ, оно вечно (знаки: настоящее, прошлое, будущее, предки, потомки): « …все предки, имена которых она знала… И ей нисколько не труднобыло держать в себе всю эту тьму народа, живого и мертвого…» // «Всякий раз, когда возникали старые нити, старые, из прошлого, люди, все устраивалось» // «До сих пор в Поселок приезжают Медеины потомки..» [22: 279]. Семья как центр освоенного мира, доминантная первичная структура, организующая жизненное пространство индивида, его систему координат в мире – основное поле событийности в прозе Л. Улицкой, что связывает ее с традицией классического романа, который после открытий Л. Н. Толстого проблемы мира и общества рассматривает через призму семейных отношений[13: 97]. 1 2 |
