Политикопсихологические истоки внешней политики сша
 Скачать 42.02 Kb. Скачать 42.02 Kb.
|
|
Оглавление Введение 2 1.Политико-психологические истоки внешней политики США 3 2.Концепции внешней политике США в условиях «нового мирового порядка» 7 Заключение 11 Список использованной литературы 12 Введение Известно, что Соединенные Штаты лидируют в области технологий, финансов, вооруженных сил и политики. У Соединенных Штатов так много проблем в политическом плане, что они имеют возможность продвигать позиции других стран. Для достижения этих результатов Соединенные Штаты выдвинулись вперед как держава, борющаяся за влияние и укрепление международных позиций в регионе, как сверхдержава, отстаивающая свои права и представляющая «благосостояние союзников». Соединенным Штатам потребовалось чуть более 200 лет, чтобы стать лидером. Этого достаточно, чтобы стать прогрессивной и сильной державой, мировым лидером, выразителем демократических идей и либеральных принципов, образцом рыночной экономики и неприкосновенным защитником прав человека. Лидер с обширными связями в сфере международного лоббирования, санкциями, которые могут привести к финансовому кризису, и сильной военной мощью в качестве крайней меры в переговорах с другими странами. Целью данной статьи является обзор концептуальной основы США. во внешней политике. Поставленная цель позволила определить следующие задачи исследования: 1. Определить политические и идеологические основы США на протяжении всей истории. 2. Определить основные доктрины, которые впоследствии стали доктриной США. основу внешней политики. 1.Политико-психологические истоки внешней политики США Понимание и анализ международной политики было центральным интеллектуальным направлением исследований международных отношений с начала 1930-х годов. Как показывают четыре великих дебата по международным отношениям, у ученых есть разные взгляды, подходы и инструменты для понимания глобальной политики. В результате появилось несколько теорий/подходов к IR. Тем не менее, я использую три основные теории международных отношений, а именно (нео)реализм, либерализм и конструктивизм, для объяснения внешней политики США в этом разделе, потому что, как утверждают Уолт (1998) и Снайдер (2009), эти три теории формируют как публичный дискурс, так и и анализ политики больше, чем другие подходы к международным отношениям, и играют жизненно важную роль в формулировках внешней политики политиков. Ниже для каждой теории я даю краткое объяснение теории, а затем объясняю, как каждая теория объясняет внешнюю политику США на примерах. Корни реализма уходят примерно на 2500 лет назад. От Фукидида до современных реалистов ученые пытались объяснить международную политику. Реализм в дисциплине международных отношений в основном делится на три группы: классический реализм, структурный (нео) реализм и неоклассический реализм. Все подходы пытаются объяснить международную политику относительно (подвергая сомнению) порядка и стабильности (Lebow, 2013, стр. 60). Классический реализм наметил реалистический подход к международной политике и сделал несколько выводов. Затем Кеннет Вальц теоретизировал реализм в своей широко известной книге «Теория международной политики» (1979). Книгу Вальца обычно считают крупным достижением классического реализма. Однако после окончания холодной войны возник неоклассический реализм, который включил внутренние факторы в реалистический анализ международной политики. Классический реализм имеет несколько предположений о международной системе и поведении государства. Можно сказать, что классический реализм ссылается на естественное состояние Гоббса. В гоббсовском естественном состоянии люди по своей природе склонны угнетать друг друга. Согласно классическим реалистам, международная система — это анархическая система самопомощи, а международная политика — это борьба за власть, и эта борьба неизбежна и рациональна. Утверждение национальных интересов определяется по отношению к власти; главная цель всех государств — выжить в конкурентной международной системе. В противном случае последствия могут быть разрушительными. Чтобы предотвратить неблагоприятные последствия, баланс сил является ключевой особенностью реалистического анализа международной системы. Структурный реализм принимает большинство классических реалистических предположений, таких как международная система самопомощи анархии, но есть основные моменты, в которых эти два подхода различаются. Структурные реалисты определяют власть с точки зрения военной мощи и экономических возможностей. Кроме того, структурные реалисты сосредотачиваются на структуре международной системы, а не на человеческой природе, как это делают классические реалисты. Кроме того, структурные реалисты классифицируют международную систему с точки зрения полярности. Они утверждают, что изменение системы происходит при изменении числа полюсов и что это изменение является результатом сдвигов в балансе материальных возможностей . Неоклассический реализм, с другой стороны, отличается от реализма и структурного реализма сочетанием внутренних и внешних факторов в оценке внешней политики актора (Роуз, 1998, стр. 145). Другими словами, хотя международная система влияет на государства при определении их внешней политики, внутренние факторы, такие как восприятие политиков и общество, также играют жизненно важную роль в формулировании внешней политики. Согласно неоклассическому реализму, поскольку политики являются ключевыми участниками процесса принятия внешнеполитических решений, их восприятие и интерпретация поведения других акторов и международной системы оказывают значительное влияние на внешнеполитические решения. Кроме того, внутреннее общество может ограничивать варианты внешней политики для политиков и лидеров. Учитывая краткую предысторию классического, структурного и неоклассического реализма, внешняя политика США в реалистическом смысле выглядит следующим образом. Внешняя политика США является результатом борьбы США за власть в анархической международной системе. США реагируют на международные тенденции и угрозы, чтобы выжить в системе. Из-за международной системы США объявляют войну или участвуют в альянсах, чтобы уравновесить другие ревизионистские государства. Другими словами, внешняя политика США определяется ее относительной мощью, внешними угрозами и борьбой за власть. На общем уровне либерализм фокусируется на обеспечении свободы людей и прав собственности. Локк и Кант — одни из самых известных либеральных мыслителей. С либеральной точки зрения люди не враждебны друг другу, как в реализме. Наоборот, они равные и обычно готовы сотрудничать. Либеральная теория международных отношений также утверждает, что государства не враждебны друг другу и могут увеличить свои интересы путем сотрудничества. Либерализм, в отличие от реализма, фокусируется на абсолютных выгодах, а не на относительных, как в реализме (Stein, 1982; Baldwin, 1993). Соответственно, государство может преследовать свои интересы, не оказывая неблагоприятного воздействия на другие государства. Можно сказать, что либерализм не фокусируется на войне в международной системе, как в реализме; и наоборот, он фокусируется на мире в системе. Несмотря на то, что либеральная теория международных отношений признает, что международная система анархична, а государства являются важными участниками международной системы, она не недооценивает силу международных организаций и неправительственных организаций. Согласно либеральной теории международных отношений, международные организации с их правосубъектностью и суверенитетом могут способствовать миру. В отличие от реализма, в либеральной теории международных отношений государства не являются единственными важными действующими лицами в международной системе. Либеральная теория международных отношений определяет понятие власти иначе, чем реализм. В реализме под властью понимаются военные возможности государств. В то время как реалисты недооценивают возможность извлечения выгоды из экономических соглашений, либеральное определение власти принимает во внимание экономику как часть власти. Либералисты утверждают, что экономическая мощь государств является частью власти государств и что государства экономически взаимозависимы. Таким образом, взаимозависимость ведет к сотрудничеству между государствами (Jervis, 1999; Keohane and Martin, 1995). Либеральная теория - это теория с большим количеством пояснений в отношении глобальных проблем по сравнению с реализмом. Поскольку либеральные ученые-международники утверждают, что история человечества развивается линейно, некоторые либеральные ученые утверждают, что либеральная теория международных отношений способна объяснить прогрессивные исторические изменения. Учитывая краткую предысторию и аргументы обеих сторон, а именно теорию международных отношений и теории американской политики, в этом разделе я оцениваю вклад, идеи и доказательства обеих сторон. Во-первых, я оцениваю вклад и идеи обеих сторон. Затем я оцениваю доказательства с обеих сторон. Прежде чем приступить к оценке, я хочу подчеркнуть один момент. Я утверждаю, что ни теории международных отношений, ни внутренние теории не могут полностью объяснить внешнюю политику США. США являются одним из наиболее важных акторов в международной системе и имеют уникальный характер во внутренней политике. Следовательно, внешняя политика США может быть полностью объяснена только путем объединения теории международных отношений и внутренних теорий. На США влияют международные тенденции, а также внутренняя политика США. Сказав это, я утверждаю, что внутренние теории более способны объяснить внешнюю политику США, чем теории международных отношений. Теории международных отношений помогают понять общие черты/тенденции внешней политики США. Кроме того, теории международных отношений полезны для систематического объяснения внешней политики США. (Нео)реализм раскрывает мотивы власти и заинтересованности во внешней политике США. Он также показывает, как характер международной системы влияет на внешнюю политику США. Разница между внешней политикой США в эпоху «холодной войны» — биполярной международной системой — и внешней политикой США в эпоху после «холодной войны» — однополярной международной системой — является примером вклада реализма в понимание внешней политики США. Реализм также полезен для понимания большинства внешнеполитических решений США, связанных с войной или военной интервенцией, на абстрактном уровне. Раскрывая мотивы власти и интересов, реализм обычно предлагает, почему внешняя политика США действовала определенным образом. Однако в нем отсутствует объяснение конкретного процесса принятия внешнеполитических решений США. Либерализм, с другой стороны, также полезен для объяснения общих тенденций во внешней политике США. Роль международного сотрудничества, экономической политики и международных организаций в определении внешней политики США можно объяснить либерализмом. В целом эти черты внешней политики США определяют общие черты внешней политики США. С точки зрения безопасности теория демократического мира предлагает объяснение общих тенденций во внешней политике США. Внешняя политика США в основном основана на продвижении либеральных ценностей и обеспечении либерального мирового порядка. Записи внешней политики США по вопросам безопасности показывают, что теория демократического мира помогает объяснить внешнюю политику США. The United States, A National Security Strategy of Engagement and Enlargement 1994-1995 прямо заявляет, что демократические государства с меньшей вероятностью будут угрожать интересам США и с большей вероятностью будут сотрудничать с Соединенными Штатами для противодействия угрозам безопасности и содействия свободной торговле и устойчивому развитию. Наконец, конструктивизм раскрывает важность других понятий, таких как идентичность, культура и восприятие, в определении внешней политики США. Скажем по-другому; конструктивизм также проводит общие линии, по которым действует внешняя политика США. Кроме того, это показывает, как идентичность и восприятие являются ключевой частью внешней политики США. 2.Концепции внешней политике США в условиях «нового мирового порядка» Некоторые правительства провозгласили свою уникальную роль или миссию в «освобождении» иностранных народов и обществ, страдающих от той или иной формы угнетения. Это понятие проникло в американские внешнеполитические дискурсы почти со дня основания республики. Цитаты из президентских посланий бесчисленны, предполагая, что роль международного освободителя глубоко укоренилась в американской самоидентификации как высшего общества, которому следует подражать во всем мире. От Гамильтона и Джефферсона до Трумэна, Кеннеди, Клинтона и Джорджа Буша-младшего тема в основном одна и та же: Соединенные Штаты обязаны поддерживать других, борющихся за свободу. Как выразился Рональд Рейган, определяя цель поддержки « контрас ».в Никарагуа в 1980-х годах Соединенные Штаты обязаны поддерживать их, потому что они ( контрас ) «являются моральным эквивалентом наших отцов-основателей». Отвернуться было бы «предать нашу многовековую преданность делу поддержки тех, кто борется за свободу». Чтобы мы не думали, что этот тип риторики использовался исключительно в символических случаях, основные документы по планированию внешней политики, такие как Директива Совета национальной безопасности, как и анализ Стратегии национальной безопасности Буша 2002 г., настаивали на том, что «наша позиция как центра силы в свободном мире возлагает на Соединенные Штаты большую ответственность за лидерство… чтобы установить порядок и справедливость средствами, соответствующими принципам свободы и демократии». Эти темы были заметны во всех основных внешнеполитических проблемах, с которыми американцы столкнулись в конце XIX века: экспансионистская война против Мексики, «открытие» торговли с Японией и Китаем — крупный проект, оправданный как продвижение западной цивилизации — и война 1898 года. против Испании за освобождение Кубы. Миссионеры, торговцы и политики объединились в великое американское движение на Запад (включая Восток), полностью убежденные в том, что они выполняют свой долг — нести блага цивилизации другим, где бы они ни находились. Слова, высказанные госсекретарем Уильямом Сьюардом в 1860-х годах, сегодня звучат знакомо: «Права, отстаиваемые нашими предками, не принадлежали им самим. Это были общие права человечества». У Соединенных Штатов, утверждал он, есть не только возможность, но и обязанность «обновить условия человечества, проложить путь к всеобщему восстановлению власти управляемых» повсюду в мире. Вудро Вильсон привнес новое измерение в риторику цивилизаторской миссии. Его мысли, связанные с проектом Лиги Наций, представляли собой раннюю формулировку теории демократического мира. Недемократические государства были по своей сути агрессивными, потому что они выражали интересы узкой элиты и игнорировали пожелания широких слоев населения, которые считались миролюбивыми. Одно из первых видений Лиги заключалось в том, чтобы стать организацией, объединяющей только мировые демократии. Мир был бы гарантирован, потому что только демократии выражают надежды человечества на мир и выполняют свои договорные обязательства. Эта тема была центральной в концепции Джорджа Буша-младшего об уникальных обязательствах Америки нести блага свободы тем, кто ими не пользуется. Все слова 19-го века можно найти в его основных внешнеполитических речах: «миссия», «цивилизация», провиденциальная поддержка великого проекта демократизации, обязательства руководства и, имплицитно, идея о том, что другие должны стать такими, как мы. К этому вареву он добавил неверную версию гипотезы демократического мира. Подлинный мир возможен только среди демократий; следовательно, если вы хотите мира, вы должны продвигать демократию везде и всюду. Таким образом, нападение на Ирак было мотивировано (по крайней мере, так утверждал Буш, но только после того, как оружие массового уничтожения не было найдено) не только желанием освободить давно угнетенных жертв тирании Саддама Хусейна, но и как важный шаг в демократизации Ближнего Востока. Эта демократизация затем приведет к миру во всем регионе.1 Что насчет других случаев? Члены Учредительного собрания Франции в мае 1790 года отказались от всех захватнических войн, изображая себя предвестниками новой международной политики. Глубокая неуверенность и ощущение угрозы, исходящей из Вены и Потсдама (Пильницкая декларация и бегство Людовика XVI в Варенн) помогли Франции вступить в войну против консервативной Европы в 1792 г. В ходе военных успехов Бельгия, Савойя, Ницца, Шпьер, Вормс, Майнц и, наконец, Франкфурт пали перед французскими революционными армиями и впоследствии были «освобождены». Конвент не был объединен политикой «освобождения», но поскольку Брюссель и Австрийские Нидерланды были захвачены, эти победы нужно было оправдать. Французские революционеры были универсалистами в том смысле, что считали принципы, лежащие в основе их проекта, применимыми повсюду. Идея о том, что суверенитет принадлежит народу, а не личности короля или королевы, логически привела к принципу самоопределения для всех народов. Это означало, что народ, недовольный своей участью при одной системе правления, мог решить присоединиться к другой или создать другую, и как главные инициаторы этих идей французы были обязаны «помочь всем народам, желающим восстановить свои свободы». как было провозглашено Конвентом в ноябре 1792 г. Обязанность «ниспровергнуть все престолы, сокрушить всех королей и сделать триумф свободы и разума всеобщим», стала одной из многих инструкций, изданных Комитетом общественной безопасности министру иностранных дел. В последующих завоеваниях задачей полководцев-победителей было провозглашение верховной власти народа, подавление установившейся власти, созыв народа на первичные собрания. Это была французская революционная версия «смены режима» во имя свободы и свободы. Они также дали понять, что свобода означает выбор управления в соответствии с французскими принципами. Освобожденные общества не были свободны в выборе форм правления, которые означали бы лишь «полусвободу» или сохраняли положение привилегированных порядков. Французская власть была бы необходима, чтобы совершить революцию, которая отвечала бы истинным интересам покоренных народов. Конечно, решение относительно этих интересов будет принято в Париже. Менее чем за год якобы оборонительная война превратилась в идеологический крестовый поход за освобождение Европы от ее тиранов. Безусловно, соображения, лежащие в основе этой политики, в значительной степени были связаны с обеспечением безопасности «естественных» границ Франции (оборонительный приоритет), но французские освобождения выходили далеко за рамки этих потребностей. То, что эта политика, казалось, противоречила отмене завоевания в 1790 году, было легко обработано ловкостью языка, превратив завоевание в «освобождение». Это было основано на убеждении, что народы по всей консервативной Европе жаждут освобождения от своих тиранов. В то время как принципы революционной Франции поначалу вызывали сочувствие во всей Европе, освобождение и оккупация иностранцами редко вызывают широкий и стойкий энтузиазм. Столкнувшись с усилением беспорядков и вооруженным сопротивлением «освобожденных», французы отказались от претензий на освобождение и превратили войны вплоть до окончательного поражения Наполеона в систематические программы грабежей, вымогательства, мародерства и строительства империи. На первый взгляд может показаться озадаченным сравнение французской, советской и американской внешнеполитической риторики и действий. Но если сделать поправку на уникальный словарь в игре, структура разработки внешнеполитической роли во многом схожа. Каждый лидер считает свою страну исторически уникальной; каждый вырабатывает некоторое чувство ответственности за «освобождение» тех, кого считают жертвами ложных идеологий или репрессивных правительств (или классов); каждый предполагает, что другие жаждут освобождения; и каждый предполагает, что освобожденные хотят стать точной копией своих освободителей. Они также предполагают, что их собственные фундаментальные политические и социальные ценности универсальны и что, поскольку их собственная страна наслаждается благами свободы или прекращением классового угнетения, они также несут универсальную ответственность за лидерство. Таким образом, американское кредо основывается на смеси религии, предполагаемого превосходства политических, экономических и социальных институтов, а также на сочетании благотворительных и отеческих побуждений обращать других в американские ценности, принципы и общественные нравы. Они глубоко укоренились в американской культуре и подкреплены историческим опытом двух мировых войн. Они не играли руководящей роли во всех администрациях во все времена, но они значительно проявились в конце 19 века, во время администраций Вильсона, в первые годы холодной войны и в первой администрации Буша-младшего. В знаменитой «Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки» (НСБ) 2002 года утверждается, что американские принципы свободы и справедливости «правильны и справедливы для всех людей во всем мире» (Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки). Он снова появляется в версии NSS 2006 года. Общепризнанная цель американского государственного управления, утверждается в этом документе, состоит в том, чтобы «помочь создать мир демократических, хорошо управляемых государств». Это мало чем отличается от устремлений Вудро Вильсона или, если на то пошло, от целей Теодора Рузвельта в Карибском бассейне и Центральной Америке. Заключение Короче говоря, сегодня есть проблемы с философией американской внешней политики. После распада Советского Союза в мире возникла уникальная историческая ситуация, когда США стали единственной мировой сверхдержавой. Однако, как показало последующее историческое развитие, однополярный мир не рассчитан, а военные, экономические и технологические возможности Америки не позволяют США стать подлинной глобальной гегемонией. В одиночку Америка не способна решить мировые проблемы (терроризм, распространение оружия). Идеологическая атака Америки на «распространение демократии» застопорилась в некоторых регионах (Средняя Азия) и встретила сильное сопротивление в некоторых странах (Ближний и Средний Восток). Американские элиты создали много проблем с концепцией «американской миссии» и американской исключительности. На самом деле век. Многие проблемы требуют коллективных усилий для решения. И это требует хорошего группового сотрудничества для совместных усилий, зная, что все партнеры равны в своей приверженности своим интересам, которые противоречат внешнеполитическим взглядам США. Концепция дискриминации со стороны американских элит и отказ от «американской работы», преобладающее использование «этических способов» делают мир хуже. Кроме того, преемственность идеалов и идей, лежащих в основе американской внешней политики. Во многих случаях внешняя политика передается от одного поколения к другому, независимо от обеих политических партий, на партийной основе, что делает внешнюю политику США жесткой. 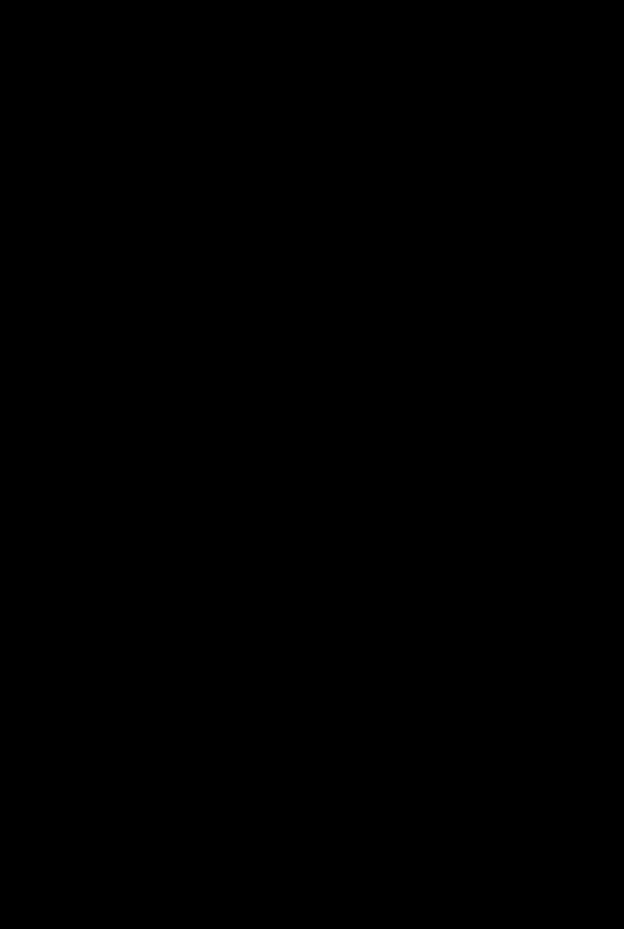 |
