Толкование терминов, которые встречаются в этом отрывке Анаморфирование
 Скачать 35.71 Kb. Скачать 35.71 Kb.
|
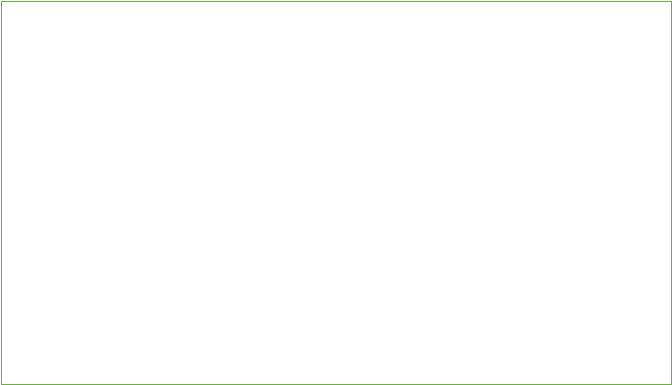 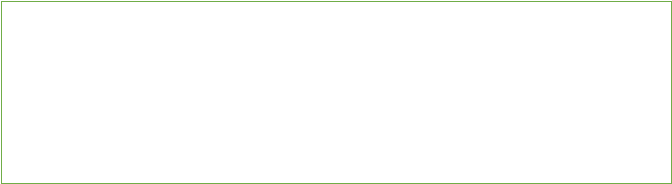 Толкование терминов, которые встречаются в этом отрывке: Толкование терминов, которые встречаются в этом отрывке:Анаморфирование https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/43065/анаморфирование Диспозитив – порядок, расположение. Сверхчувственное – то, что не доступно познанию при помощи органов чувств. Например, яблоки являются чувственными, а не сверхчувственными (мы можем пробовать их на вкус, нюхать, трогать и т. д.), а число 5 (и любое другое) является сверхчувственным, мы познаем его только умом, но не чувствами. Идеализм – философские концепции, которые считают реальным или более значимым сверхчувственное. Материализм – философские концепции, которые считают реальным или более значимым чувственное. Материализация – здесь: воплощение. Пещера Ласко https://ru.wikipedia.org/wiki/Пещера_Ласко Славой Жижек: «Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия» (отрывок) В новелле Джеймса Балларда "Джоконда сумеречного полдня" герой, выздоравливающий после болезни глаз, проводит дни в полотняном шезлонге на морском берегу, слушая крики чаек. Он прикован к месту, потому что на глаза наложена повязка. Крики чаек вновь и вновь пробуждают у него странное видение: он карабкается по выбитым в камне ступеням прибрежной пещеры, наверху которой его ожидает полускрытая покрывалом женщина -- инцестуальный объект желания (в последних строках новеллы герой охарактеризован как "страстный и лишенный чувства раскаяния Эдип"). Но каждый раз он просыпается прежде, чем женщина скинет с себя покрывало. Когда доктор объявил его здоровым и снял повязку, это видение перестало посещать нашего героя. Тот в отчаянии идет на решительный шаг: в полдень выходит из дому и упорно смотрит прямо на солнце, покуда не слепнет, надеясь, что тогда чудное видение предстанет перед ним во всей своей полноте... В этой истории показан выбор между реальностью и реальностью воображения, доступной только слепому. Одна и другая взаимно представляются искаженными, анаморфированными. С точки зрения реальности, реальное -- всего лишь бесформенное пятно, а воображаемое реальное размывает контуры "реальности". Диспозиция новеллы Балларда представляет собой не что иное, как платоновскую пещеру из "Республики". Каким образом этот базовый идеалистический диспозитив можно преобразить в материалистический? С материалистической точки зрения, статус истинной реальности (солнце над пещерой) по отношению к реальности пещеры -- фантазия, воображение того, что не может быть воспринимаемо непосредственно, но лишь через свое искаженное отражение на стене пещеры, служащей своеобразным экраном. Таким образом, линия раздела пролегает внутри самой пещеры, между материальной реальностью, которую обитатель пещеры видит вокруг себя, и ускользающей "анафорической" видимостью "сверхчувственного", "бесплотного" явления на стене -- то есть, как говорил Лакан (и задолго до него Гегель), сверхчувственное -- это явление кажимости. Или скажем иначе: если основная проблема идеализма заключается в том, как перейти от бесконечно меняющейся "ложной" материальной реальности явлений к истинной реальности Идей (то есть выйти из пещеры, где мы воспринимаем только тени, на дневной свет, где сможем увидеть солнце), то проблема материализма - как раз обратная, и ее можно обозначить как генезис самого сходства. Каким образом телесная реальность порождает из себя фантазмические видимости, "бесплотные" события-ощущения? Диспозиция отношений между означающим, реальностью и фантазмическим Реальным представлена в знаменитой новелле Саки "Окно". В деревенский дом попадает случайный гость и смотрит через стеклянную дверь в поле. Девушка, хозяйка дома, сообщает, что она живет одна -- все члены семейства погибли в аварии. Однако вскоре, снова глядя через стекло, он видит, как к дому приближаются его обитатели: они возвращаются с охоты. Решив, что увидел призраков, гость в ужасе убегает... (Девушка -- обыкновенная патологическая лгунья; для семьи она тут же выдумывает историю, объясняющую паническое бегство гостя.) Достаточно нескольких слов, создающих соответствующий символический контекст, чтобы превратить окно в раму для воображаемого и преобразить таинственных обитателей дома в ужасающее видение. Ту же самую диспозицию можно обнаружить в одном из лучших за последнее время научно-фантастических фильмов -- "Звездные врата" Роланда Эммериха. Это история про молодого ученого, бьющегося над загадкой гигантского кольца из неизвестного металла, которое нашли в Египте в 20-е годы. Если разгадать семь символов, кольцо начинает действовать как "звездные врата": ступив в дыру кольца, человек попадает в другую реальность, в другое пространственно-временное измерение. Здесь мы имеем дело не с научным проникновением в материальную причинность, а с символической деятельностью -- написанием определенных символов, которые активизируют способность кольца -- так же, как в "Окне" Саки символическое вмешательство преображало обыкновенное окно-раму в экран фантазмических явлений. Здесь наиболее существенна топологическая структура диспозиции: не только сама пребывающая в реальности дыра, которая функционирует как вход на Другую Сцену фантастического пространства, но и конфигурация топологического поворота реальности, превращения-в-себя, что наилучшим образом иллюстрируется театральными подмостками: если смотреть на них со зрительского места, то перед нами -- фантазмическое пространство, но если зайти за кулисы, станешь свидетелем убогости механизма, обеспечивающего сценические иллюзии, фантазмическое пространство исчезает, "смотреть не на что". В научно-фантастической литературе, а также в кино зеркало, окно или дверь часто служат в качестве прохода в другое, фантазмическое измерение. Одна из расхожих ситуаций: персонаж открывает дверь, обнаруживая за порогом нечто совершенно неожиданное и до ужаса реальное, лежащую за порогом тайну. Вариант ситуации: персонаж смотрит в зеркало и вместо ожидаемого отражения повседневной реальности видит "что-то еще". Величайшим мастером этого искусства в кино был Орсон Уэллс. В его версии "Процесса" Кафки, например, он постоянно использует прием открывания дверей, "которые всегда открываются в совершенно неожиданное место... Новое пространство в "Процессе" всегда связано с переживанием ужаса". Простая женщина, стирающая белье, открывает дверь своей нищей комнатенки и впускает К. в огромный прокуренный зал, в котором происходит нечто вроде многолюдного политического митинга... Происшествие в присутственных местах зеркально противоположно: следуя по ярко освещенному коридору просторного современного здания, К. открывает дверь в чулан, где обнаруживает одетого в кожу мужчину, хлещущего двух продажных полицейских, на которых К. прежде жаловался. "Огромное пространство казенного помещения сменяется тесной камерой пыток, уродливой комнатушкой, освещаемой голой лампочкой и заполненной раболепно изогнутыми фигурами". Эта сцена замечательно воплощает в себе извращенную логику Супер-эго: на К. возлагается вина за реализацию его жалобы, что принимает форму неприличной садомазохистской сцены с сексуальным оттенком, и одновременно он получает удовлетворение собственного иска к Другому в лице Закона. Не является ли данная диспозиция -- рама, через которую можно увидеть Другую Сцену -- элементарной диспозицией фантазмического пространства от доисторических рисунков пещеры Ласко до рожденной компьютером Виртуальной Реальности (ВР)? Не является ли интерфейс компьютера последней материализацией этой рамочной конструкции? Собственно "человеческое измерение" определяет присутствие экрана, рамы, через которую мы сообщаемся со сверхчувственной виртуальной вселенной. Еще Лакан говорил о том, что настоящее место платоновских идей -- поверхность чистой видимости. Дыра таинственного кольца разрывает нашу связь с естественной средой и повергает нас в ситуацию распада связи времен: мы перестаем чувствовать себя в материальном мире как у себя дома, устремляемся к Другой Сцене, которая, однако, остается навсегда "виртуальной", обещанием самой себя, мимолетным анаморфическим видением, схваченным боковым зрением. Толкование терминов, которые встречаются в этом отрывке: Означающее – знак. Например, звучание слова «стакан» – это означающее. Означаемое – смысл знака, обобщенный, схематичный образ предмета в нашем сознании, наиболее важные и характерные черты данного объекта. Например, означаемым слова «стакан» является цилиндрический сосуд, который предназначен для питья, и т. д. Важно: сам стакан не является означаемым! Соссюр считал, что значение появляется в результате ассоциации знака (означающего, или звучания слова) и понятия (а не реального объекта). Ж. Лакан «О бессмыслице и структуре бога» (отрывок) По поводу употребленного Шребером выражения (голоса давали ему знать, что чего-то "не хватается") я уже замечал, что подобные обороты речи не возникают сами по себе, а рождаются в процессе исторического развития языка, причем в кругах достаточно образованных, чтобы проявлять к вопросам языка специальный интерес. И хотя на первый взгляд кажется, что они вполне естественно вытекают из организации означаемого, история может точно установить, когда именно они появились. Итак, я говорил, что выражение le mot me manque (у меня не хватает слов), кажущееся нам столь естественным, но на самом деле, вышло из кружков языковых пуристов. В те времена оно казалось столь необычным, что Сомэз отметил его появление, приписав его Сент-Аманту. Я нашел у Сомэза около сотни подобных оборотов: C'est la plus naturelle des fenimes (для женщин это вполне естественно) - Il est brouille avec Untel (он с тем-то поссорился) - Il a le sense droit (он мыслит здраво) - Tour de visage (выражение лица) - Tour d' esprit (склад ума) - Je me connais un peu en gens (я разбираюсь в людях). Все эти обороты, давно вошедшие в обиход и звучащие для вашего уха совершенно естественно, характеризуются у Сомэза и в Риторике Берри 1663 года издания как созданные в кружках пуристов. Это говорит о том, сколь иллюзорна на самом деле идея, будто язык формируется путем простого и непосредственного восприятия реальности. Все подобные выражения требуют долгой языковой работы и опираются на многочисленные импликации (следствия) и редукции (упрощения) реального - одним словом, на всего, что мы назвали бы развитием метафизики (здесь: мышление о вещах в их сущности, попытка увидеть в явлениях нечто вневременное. Пример: вода у Фалеса – это метафизическая идея: имеется в виду, что все вещи в их основе текучи и т. д.). То, что люди действуют определенным образом, используя определенные означающие, предполагает множество предварительных условий. Так, выражение "мне не хватает слов" предполагает прежде всего, что слова эти налицо. 1 Итак, сегодня мы продолжаем наше рассуждение опираясь на выработанные нами методические принципы. Чтобы сделать еще один шаг к пониманию бреда судьи Шребера, обратимся к документу. Впрочем, ничего другого в нашем распоряжении все равно нет. Я обращал ваше внимание на то, что документ был составлен Шребером уже на поздней стадии психоза, когда свой бред он был в состоянии сформулировать. Я вправе это заранее говорить, ибо по этой причине от нас ускользает нечто такое, что может показаться исходным, лежащим в основе, первичным - переживания, пресловутые неизреченные и невыразимые переживания, сопутствующие психозу в течение его ранней, плодотворной фазы. Никто не запрещает нам внушать себе, будто мы теряем таким образом самое главное. Сожалея о потере главного, обычно пренебрегают тем, что под рукой, и на что тоже не грех обратить внимание. Почему, собственно, окончательная фаза должна быть менее поучительна, чем первичная? Она вовсе не обязательно содержит материал менее ценный, тем более, что согласно выработанному нами принципу в основе изучения подсознательного лежит отношение субъекта к Символическому. Принцип этот требует отказа от той имплицитно (скрыто) заключенной во множестве систем идеи, что все, выраженное субъектом в словах - это лишь негодное и искаженное истолкование переживания, которое и является единственной первичной реальностью. Все без исключения разновидности современных интеллектуалов признают существование чего-то неподдающегося анализу, для мышления заведомо недоступного. Одно из двух: или бред вообще находится вне сферы психоанализа, т. е. не имеет ничего общего с бессознательным, либо он порождается из бессознательного в том его понимании, которое было выработано нами в течение нескольких последних лет. В основе своей бессознательное структурировано, сплетено, опутано, соткано языком. Причем означающее играет не просто не менее важную роль, чем означаемое, а роль фундаментальную. Ведь на деле язык характеризует система означающего как таковая. Сложная игра означаемого и означающего ставит вопросы, в которые мы не входим, поскольку это не курс лингвистики, но даже присмотревшись к ним со стороны, вы убедились, что связь между означающим и означаемым далеко не является взаимнооднозначной (здесь: симметричной). Означаемое - это не вещи, уже в первозданном своем состоянии расположенные в порядке, открытом для значения. Значение - это человеческий дискурс, имеющий свойство всегда отсылать к другому значению. В своем знаменитом курсе лингвистики Соссюр рисует схему, на которой представлены два потока - поток значения, и поток дискурса, т. е. того, что мы слышим. Схема эта показывает, что в разделении этих различных элементов на фразы уже есть момент произвольности. Единицы, именуемые словами, конечно существуют, но не так уж они едины, если к ним присмотреться. Для нас, впрочем, это сейчас не так важно. Так вот, Соссюр полагает, что разделение потока означающего осуществимо благодаря определенной корреляции между означающим и означаемым. Для одновременного прерывания обоих потоков нужна, разумеется, пауза. Схема эта весьма спорна. Так, мы наблюдаем, что с течением времени, происходят сдвиги, и что эволюционирующая система человеческих значений непрерывно смещается и изменяет содержание означающих, берущих на себя при этом другие роли. Мне кажется, что только что приведенные примеры уже дали вам это почувствовать. За несколько столетий под означающими успевают произойти явные сдвиги значения, наглядно доказывающие, что между этими двумя системами нельзя установить взаимнооднозначного соответствия. Каждая система означающих, т. е. язык, имеет ряд особенностей в слоговом составе, употреблении слов, речевых оборотах, в которые эти слова группируются, и особенности эти определяют все происходящее в бессознательном, вплоть до самых оригинальных его хитросплетений. Если бессознательное действительно таково, каким рисует его Фрейд, то симптом может явиться в простом каламбуре - каламбуре, в соседнем языке не существующем. Это не значит, что симптом всегда основан на каламбуре, но он всегда основан на существовании означающего как такового, на сложном отношении одной совокупности к другой, а точнее одной системы взятой как целое к другой, универсума означающего к универсуму означаемого. Сказанное очень хорошо соответствует положению Фрейда, что для появления симптома необходимо наличие по меньшей мере двух конфликтов - в прошлом и в настоящем - никакого иного смысла приписать просто нельзя. Без фундаментальной двойственности означающего и означаемого психоаналитический детерминизм был бы просто немыслим. Материал, связанный с прошлым конфликтом, сохраняется в бессознательном в качестве скрытого, потенциального означающего, и может накладываться на означаемое конфликта настоящего и служить ему в качестве языка, т. е. симптома. Поэтому если при изучении бреда мы будем исходить из предположения, что его следует рассматривать в плоскости психоанализа, под утлом зрения открытия Фрейда и в соответствии с его пониманием симптома, у нас не останется никаких оснований пренебрегать системой мироздания судьи Шребера, ссылаясь на то, что это, мол, чисто словесный компромисс и вторичный продукт завершающей фазы психоза (хотя свидетельство судьи далеко не всегда, конечно, выдерживает критику). Мы знаем, что по мере развития болезни параноик задним числом переосмысливает свое прошлое, и причину преследований, которым он подвергался, относит ко времени самым отдаленным. Порой ему очень трудно бывает расположить событие во времени и он стремится с помощью игры отражений спроецировать его в прошлое, которое само становится несколько неопределенным - в прошлое вечного возвращения, как описал его Шребер. Но главное не в этом. Ценность текста ТАКОГО объема, как рукопись судьи Шребера, обнаруживается в полной мере, если предположить, что означающие элементы пребывают в непрерывной и глубокой связи Друг с другом от начала бреда и до его конца. Другими словами, окончательная картина бреда позволяет нам дойти до его первоначальных элементов, и уж во всяком случае, даст право пуститься на их поиски. Таким образом, анализ бреда даст возможность понять фундаментальное соотношение субъекта с той областью, в которой организуются и. раскрываются все проявления бессознательного. Не исключено даже, что этот анализ даст нам представление если не о механизме возникновения психоза, то, по крайней мере, о характере связи субъекта психоза со сферой символического. Быть может, воочию удастся увидеть, каким образом в ходе развития психоза от момента его возникновения, и до заключительного этапа (если вообще можно говорить о заключительном этапе психоза), соотносит себя субъект со всей системой символического - этой совершенно своеобразной, отграниченной от сфер реального и воображаемого областью, с которой человек постоянно имеет дело, и которая конституирует саму человеческую реальность. То, что субъект находится в бреду, не дает нам основания заранее считать его систему бессвязной. Она, разумеется, ни к чему не применима - это действительно один из отличительных признаков бреда. Среди того, что служит в обществе предметом коммуникации, она производит впечатление абсурдное, и даже несколько тягостное. Первое, что испытывает психиатр, когда больной начинает описывать ее во всех красках, это отвращение. Выслушивать, как этот господин безапелляционно изрекает вещи, совершенно несовместимые с тем, что мы привыкли считать нормальными причинными связями, ему неприятно. "Пожалуйста по порядку, мсье", - говорят они больному, и глядишь, все уже разложено по полочкам. Бред, как и всякий дискурс, следует рассматривать прежде всего как поле значения, организовавшее некоторое означающее, так что первейшее правило опроса больного при исследовании психоза состоит, пожалуй, в том, чтобы дать ему говорить как можно дольше. После этого позволительно составить себе какое-то мнение. Я не хочу сказать, будто все клиницисты таковы, какими я их здесь представил - большинство из них делает свое дело добросовестно. По понятие элементарного феномена, выделение различных видов галлюцинаций, нарушений внимания и восприятия, и нескольких уровней способности, отнюдь не содействовали прояснению наших взаимоотношений с больным бредом. Что касается Шребера, то ему дали выговориться - благодаря тому, что никто не говорил с ним, у него нашлось время для написания своего бесценного труда. 2 Мы с вами уже знаем, что Шребер вводит в концерт слышимых им голосов различия, основанные на том, что в них действуют различные сущности. Эти сущности он именует царствами Божиими. В качестве, как сейчас говорят, рабочей гипотезы, можно допустить вероятность того, что дискурс озвучивается самим субъектом. Не исключено, что это сказано слишком сильно, но будем пока считать так. В любом случае, этот дискурс как-то связан с явлением, которое, по нашему предположению, есть не что иное, как непрерывный дискурс, запечатлевающий в памяти поведение субъекта в каждый момент его жизни и определенным образом эту жизнь дублирующий. Гипотезу эту мы обязаны признать не только в силу сделанных нам предположений об основе и структуре бессознательного, но и потому, что она отвечает самому непосредственному нашему опыту. Недавно один человек рассказал мне следующий случай. Однажды его внезапно испугала едва не наехавшая на него машина, и когда он - надо полагать - делал отстраняющий опасность жест, в его голове (если можно так выразиться) возник и был мысленно произнесен термин "черепно-мозговая травма". Эта вербализация навряд ли может рассматриваться как часть цепочки рефлекторных действии по избежанию столкновения, следствием которого могла оказаться упомянутая травма: напротив, она слишком отстранена от ситуации, не говоря уже о том, что предполагает ряд всевозможных условий, в силу которых представление о черепно-мозговой травме получило в глазах данного лица особую значимость. Здесь мы воочию наблюдаем как возникает этот скрытый и всегда готовый проявиться дискурс, существующий на другом уровне и звучащий в иной октаве, нежели музыка поведения субъекта как целого. На том этапе болезни, о котором у нас идет речь, главной чертой обращенного к субъекту Шреберу дискурса является Unsinn, бессмыслица. Но этот Unsinn не так прост. Субъект, чьи признания мы читаем, описывает себя как невольного слушателя этого дискурса, но субъект говорящий - а субъекты эти связаны между собой, иначе у нас не было бы оснований говорить о сумасшествии - говорит вещи совершенно ясные, вроде, например, той фразы, что я уже цитировал: "Aller Unsinn hebt sich auf!". Всякая бессмыслица упраздняется, снимается, транспонируется! Именно это, судя по словам Шребера, слышит он от своего постоянного собеседника в качестве приветствия. Как же артикулируют себя в этом дискурсе тот субъект, который говорит голосами, и тот, что представляет нам сказанное как имеющее значение? Это вопрос чрезвычайно сложный. В прошлый раз я попытался это показать, настаивая на значимом характере затемнения смысла, проистекающего из того обстоятельства, что голоса своих фраз не заканчивают. Мы уже имели случай обнаружить здесь структуру очень близкую к выведенной нами схеме отношении между субъектом, который непосредственно говорит, держит речь, и субъектом бессознательным, находящимся буквально внутри галлюцинаторной речи. Причем искать его следует, нельзя сказать что "по ту сторону", ибо "другого" в бреду как раз и не хватает, а скорее "по эту", в своего рода "внутреннем потустороннем". Надо сказать, что правило "не торопиться" относится к тем принципам доброй воли, которые кажутся мне для успешного изучения структуры бреда необходимыми. То, что эту структуру безоговорочно заключают в рамки, психиатрического, как раз и послужило источником непонимания, которое по отношению к ней до сих пор проявлялось. Заведомо предполагая, что речь идет о феномене анормальном, мы обрекаем себя тем самым на невозможность его понять. Мы защищаемся от него, сопротивляемся ему как соблазну, и судье Шреберу, простосердечно спрашивавшему у психиатра, не боится ли тот время от времени сойти с ума, этот соблазн был хорошо знаком. Но ведь это чистая правда. И многие из известных нам опытных психиатров прекрасно чувствовали, куда может завести выслушивание этих типов, весь день, забивающих вам голову всяческой несуразицей. Разве нам, психоаналитикам, не известно, что нормальным субъектом является тот, кто не расположен большую часть своего внутреннего дискурса принимать всерьез? Обратите внимание, сколько в нормальных субъектах, а следовательно, и в нас самих, происходит вещей, которые мы постоянно стараемся не принимать всерьез. Вполне возможно, что главная разница между нами и психически больными в этом и состоит. Именно поэтому в глазах очень многих, даже если они не отдают себе в этом отчет, психически больной - это воплощение того, к чему может привести привычка принимать вещи всерьез. |
