туризм. Вариативный потенциал
 Скачать 1.59 Mb. Скачать 1.59 Mb.
|
|
Ю.В.Доманский.Вариативный потенциал драмы Чехова 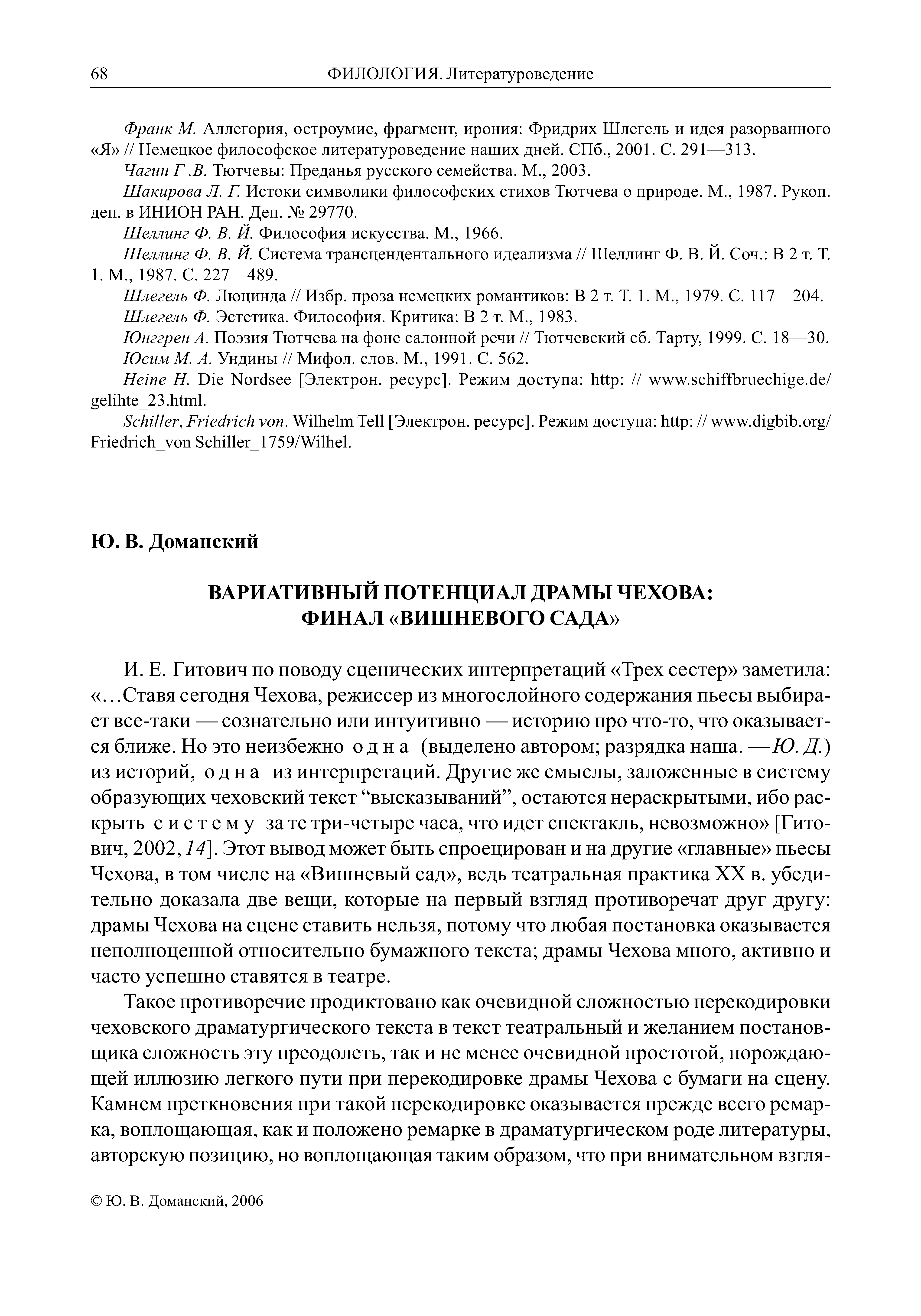 ФранкМ.Аллегория, остроумие, фрагмент, ирония: Фридрих Шлегель и идея разорванного ФранкМ.Аллегория, остроумие, фрагмент, ирония: Фридрих Шлегель и идея разорванного«Я» // Немецкое философское литературоведение наших дней. СПб., 2001. С. 291—313. ЧагинГ.В.Тютчевы: Преданья русского семейства. М., 2003. ШакироваЛ.Г.Истоки символики философских стихов Тютчева о природе. М., 1987. Рукой, деп. в ИНИОН РАН. Деи. № 29770. ШеллингФ.В.Й.Философия искусства. М., 1966. ШеллингФ.В.Й.Система трансцендентального идеализма // Шеллинг Ф. В. Й. Соч.: В 2 т. Т. 1.М., 1987. С. 227—489. ШлегелъФ.Люцинда // Избр. проза немецких романтиков: В 2 т. Т.1. М., 1979. С. 117—204. ШлегелъФ.Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983. ЮнггренА.Поэзия Тютчева на фоне салонной речи // Тютчевский сб. Тарту, 1999. С. 18—30. ЮсимМ.А.Ундины // Мифол. слов. М., 1991. С. 562. HeineH.Die Nordsee [Электрон, ресурс]. Режим доступа: http: // www.schiffbruechige.de/ gelihte_23.html. Schiller, Friedrichvon.Wilhelm Tell [Электрон, ресурс]. Режим доступа: http: // www.digbib.org/ Friedrich von Schiller 1759/Wilhel. Ю. В. ДоманскийВАРИАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДРАМЫ ЧЕХОВА: ФИНАЛ «ВИШНЕВОГО САДА» И. Е. Гитович по поводу сценических интерпретаций «Трех сестер» заметила: «.. .Ставя сегодня Чехова, режиссер из многослойного содержания пьесы выбира ет все-таки — сознательно или интуитивно — историю про что-то, что оказывает ся ближе. Но это неизбежно о д н а (выделено автором; разрядка наша. — Ю. Д.)из историй, о д н а из интерпретаций. Другие же смыслы, заложенные в систему образующих чеховский текст “высказываний”, остаются нераскрытыми, ибо рас крыть с и с т е м у за те три-четыре часа, что идет спектакль, невозможно» [Гито вич, 2002,14]. Этот вывод может быть спроецирован и на другие «главные» пьесы Чехова, в том числе на «Вишневый сад», ведь театральная практика XX в. убеди тельно доказала две вещи, которые на первый взгляд противоречат друг другу: драмы Чехова на сцене ставить нельзя, потому что любая постановка оказывается неполноценной относительно бумажного текста; драмы Чехова много, активно и часто успешно ставятся в театре. Такое противоречие продиктовано как очевидной сложностью перекодировки чеховского драматургического текста в текст театральный и желанием постанов щика сложность эту преодолеть, так и не менее очевидной простотой, порождаю щей иллюзию легкого пути при перекодировке драмы Чехова с бумаги на сцену. Камнем преткновения при такой перекодировке оказывается прежде всего ремар ка, воплощающая, как и положено ремарке в драматургическом роде литературы, авторскую позицию, но воплощающая таким образом, что при внимательном взгля- © Ю. В. Доманский, 2006 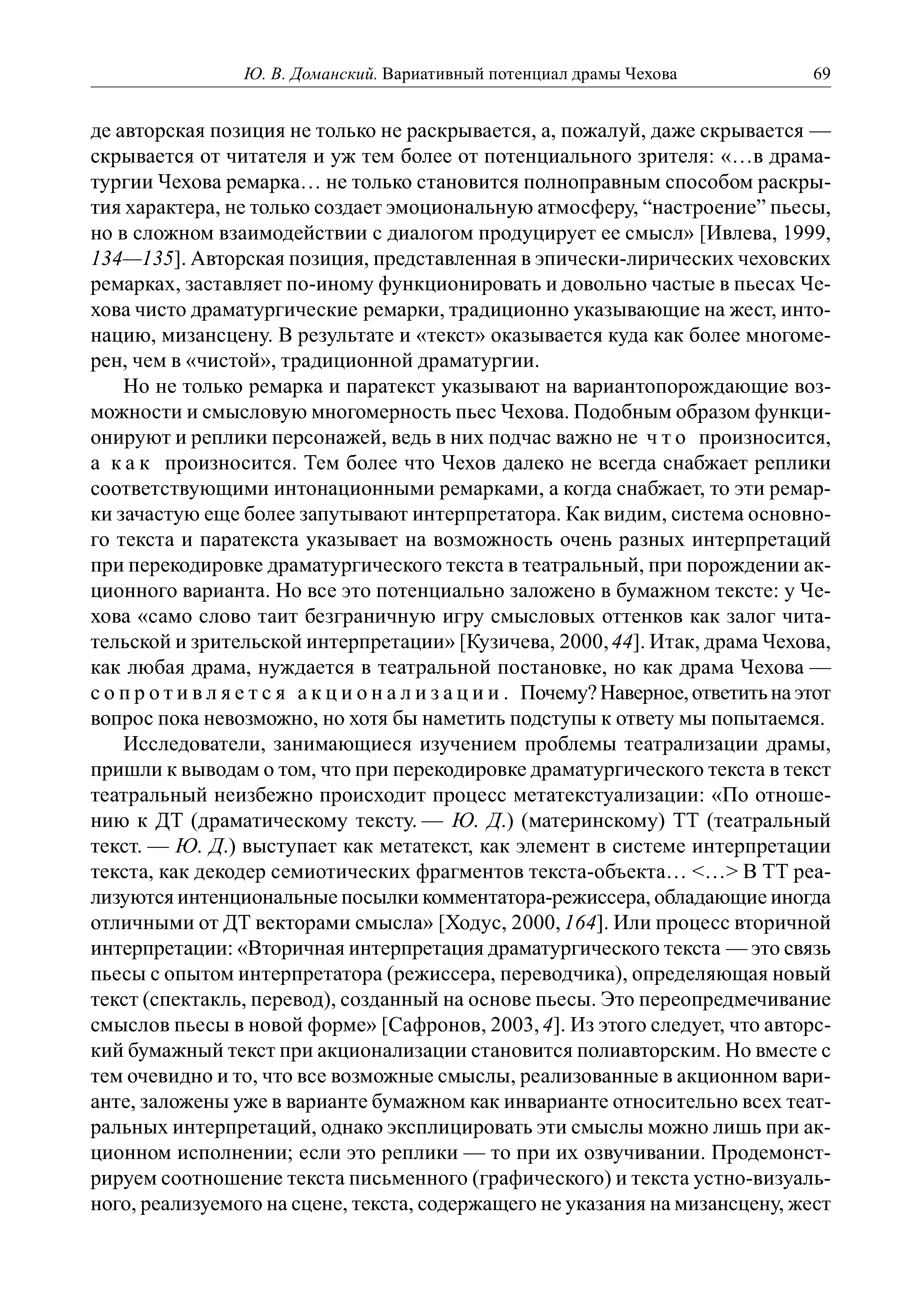 де авторская позиция не только не раскрывается, а, пожалуй, даже скрывается — скрывается от читателя и уж тем более от потенциального зрителя: «...в драма тургии Чехова ремарка... не только становится полноправным способом раскры тия характера, не только создает эмоциональную атмосферу, “настроение” пьесы, но в сложном взаимодействии с диалогом продуцирует ее смысл» [Ивлева, 1999, 134—735]. Авторская позиция, представленная в эпически-лирических чеховских ремарках, заставляет по-иному функционировать и довольно частые в пьесах Че хова чисто драматургические ремарки, традиционно указывающие на жест, инто нацию, мизансцену. В результате и «текст» оказывается куда как более многоме рен, чем в «чистой», традиционной драматургии. де авторская позиция не только не раскрывается, а, пожалуй, даже скрывается — скрывается от читателя и уж тем более от потенциального зрителя: «...в драма тургии Чехова ремарка... не только становится полноправным способом раскры тия характера, не только создает эмоциональную атмосферу, “настроение” пьесы, но в сложном взаимодействии с диалогом продуцирует ее смысл» [Ивлева, 1999, 134—735]. Авторская позиция, представленная в эпически-лирических чеховских ремарках, заставляет по-иному функционировать и довольно частые в пьесах Че хова чисто драматургические ремарки, традиционно указывающие на жест, инто нацию, мизансцену. В результате и «текст» оказывается куда как более многоме рен, чем в «чистой», традиционной драматургии.Но не только ремарка и паратекст указывают на вариантопорождающие воз можности и смысловую многомерность пьес Чехова. Подобным образом функци онируют и реплики персонажей, ведь в них подчас важно не ч т о произносится, а к а к произносится. Тем более что Чехов далеко не всегда снабжает реплики соответствующими интонационными ремарками, а когда снабжает, то эти ремар ки зачастую еще более запутывают интерпретатора. Как видим, система основно го текста и паратекста указывает на возможность очень разных интерпретаций при перекодировке драматургического текста в театральный, при порождении ак- ционного варианта. Но все это потенциально заложено в бумажном тексте: у Че хова «само слово таит безграничную игру смысловых оттенков как залог чита тельской и зрительской интерпретации» [Кузичева, 2000,44]. Итак, драма Чехова, как любая драма, нуждается в театральной постановке, но как драма Чехова — с о п р о т и в л я е т с я а к ц и о н а л и з а ц и и . Почему? Наверное, ответить на этот вопрос пока невозможно, но хотя бы наметить подступы к ответу мы попытаемся. Исследователи, занимающиеся изучением проблемы театрализации драмы, пришли к выводам о том, что при перекодировке драматургического текста в текст театральный неизбежно происходит процесс метатекстуализации: «По отноше нию к ДТ (драматическому тексту. — Ю. Д.)(материнскому) ТТ (театральный текст. — Ю. Д.)выступает как метатекст, как элемент в системе интерпретации текста, как декодер семиотических фрагментов текста-объекта... <.. .> В ТТ реа лизуются интенциональные посылки комментатора-режиссера, обладающие иногда отличными от ДТ векторами смысла» [Ходус, 2000,164]. Или процесс вторичной интерпретации: «Вторичная интерпретация драматургического текста — это связь пьесы с опытом интерпретатора (режиссера, переводчика), определяющая новый текст (спектакль, перевод), созданный на основе пьесы. Это переопредмечивание смыслов пьесы в новой форме» [Сафронов, 2003,4]. Из этого следует, что авторс кий бумажный текст при акционализации становится полиавторским. Но вместе с тем очевидно и то, что все возможные смыслы, реализованные в акционном вари анте, заложены уже в варианте бумажном как инварианте относительно всех теат ральных интерпретаций, однако эксплицировать эти смыслы можно лишь при ак ционном исполнении; если это реплики — то при их озвучивании. Продемонст рируем соотношение текста письменного (графического) и текста устно-визуаль ного, реализуемого на сцене, текста, содержащего не указания на мизансцену, жест 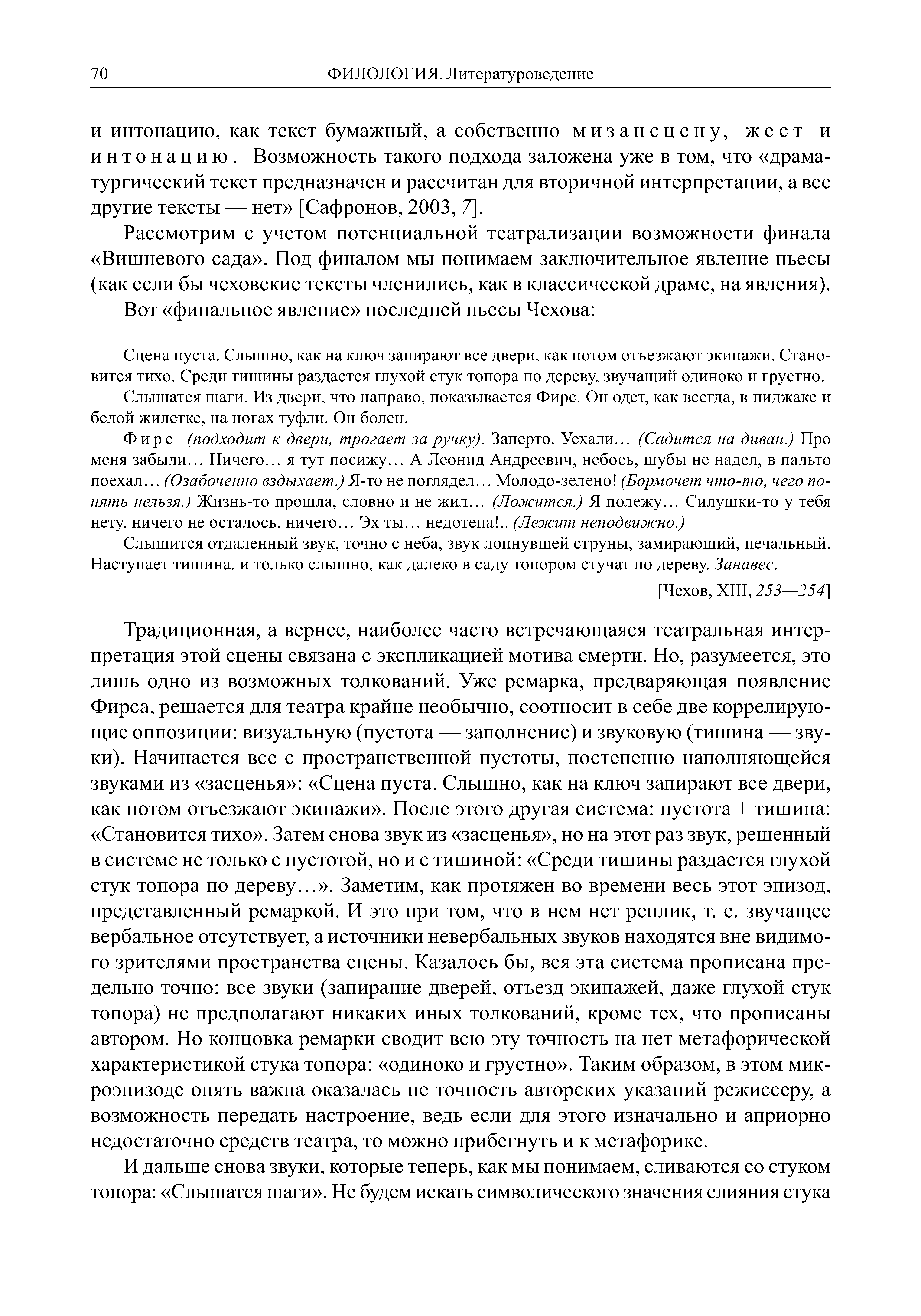 и интонацию, как текст бумажный, а собственно м и з а н с ц е н у , ж е с т и и н т о н а ц и ю . Возможность такого подхода заложена уже в том, что «драма тургический текст предназначен и рассчитан для вторичной интерпретации, а все другие тексты — нет» [Сафронов, 2003, 7]. и интонацию, как текст бумажный, а собственно м и з а н с ц е н у , ж е с т и и н т о н а ц и ю . Возможность такого подхода заложена уже в том, что «драма тургический текст предназначен и рассчитан для вторичной интерпретации, а все другие тексты — нет» [Сафронов, 2003, 7].Рассмотрим с учетом потенциальной театрализации возможности финала «Вишневого сада». Под финалом мы понимаем заключительное явление пьесы (как если бы чеховские тексты членились, как в классической драме, на явления). Вот «финальное явление» последней пьесы Чехова: Сцена пуста. Слышно, как на ключ запирают все двери, как потом отъезжают экипажи. Стано вится тихо. Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву, звучащий одиноко и грустно. Слышатся шаги. Из двери, что направо, показывается Фирс. Он одет, как всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли. Он болен. Фи р с (подходит к двери, трогает за ручку). Заперто. Уехали... (Садится на диван.) Про меня забыли... Ничего... я тут посижу... А Леонид Андреевич, небось, шубы не надел, в пальто поехал... (Озабоченно вздыхает.) Я-то не поглядел... Молодо-зелено! (Бормочет что-то, чего понять нельзя.) Жизнь-то прошла, словно и не жил... (Ложится.) Я полежу... Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего... Эх ты... недотепа!.. (Лежитнеподвижно.) Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву. Занавес. [Чехов, XIII, 253—254] Традиционная, а вернее, наиболее часто встречающаяся театральная интер претация этой сцены связана с экспликацией мотива смерти. Но, разумеется, это лишь одно из возможных толкований. Уже ремарка, предваряющая появление Фирса, решается для театра крайне необычно, соотносит в себе две коррелирую щие оппозиции: визуальную (пустота — заполнение) и звуковую (тишина — зву ки). Начинается все с пространственной пустоты, постепенно наполняющейся звуками из «засценья»: «Сцена пуста. Слышно, как на ключ запирают все двери, как потом отъезжают экипажи». После этого другая система: пустота + тишина: «Становится тихо». Затем снова звук из «засценья», но на этот раз звук, решенный в системе не только с пустотой, но и с тишиной: «Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву...». Заметим, как протяжен во времени весь этот эпизод, представленный ремаркой. И это при том, что в нем нет реплик, т. е. звучащее вербальное отсутствует, а источники невербальных звуков находятся вне видимо го зрителями пространства сцены. Казалось бы, вся эта система прописана пре дельно точно: все звуки (запирание дверей, отъезд экипажей, даже глухой стук топора) не предполагают никаких иных толкований, кроме тех, что прописаны автором. Но концовка ремарки сводит всю эту точность на нет метафорической характеристикой стука топора: «одиноко и грустно». Таким образом, в этом мик роэпизоде опять важна оказалась не точность авторских указаний режиссеру, а возможность передать настроение, ведь если для этого изначально и априорно недостаточно средств театра, то можно прибегнуть и к метафорике. И дальше снова звуки, которые теперь, как мы понимаем, сливаются со стуком топора: «Слышатся шаги». Не будем искать символического значения слияния стука 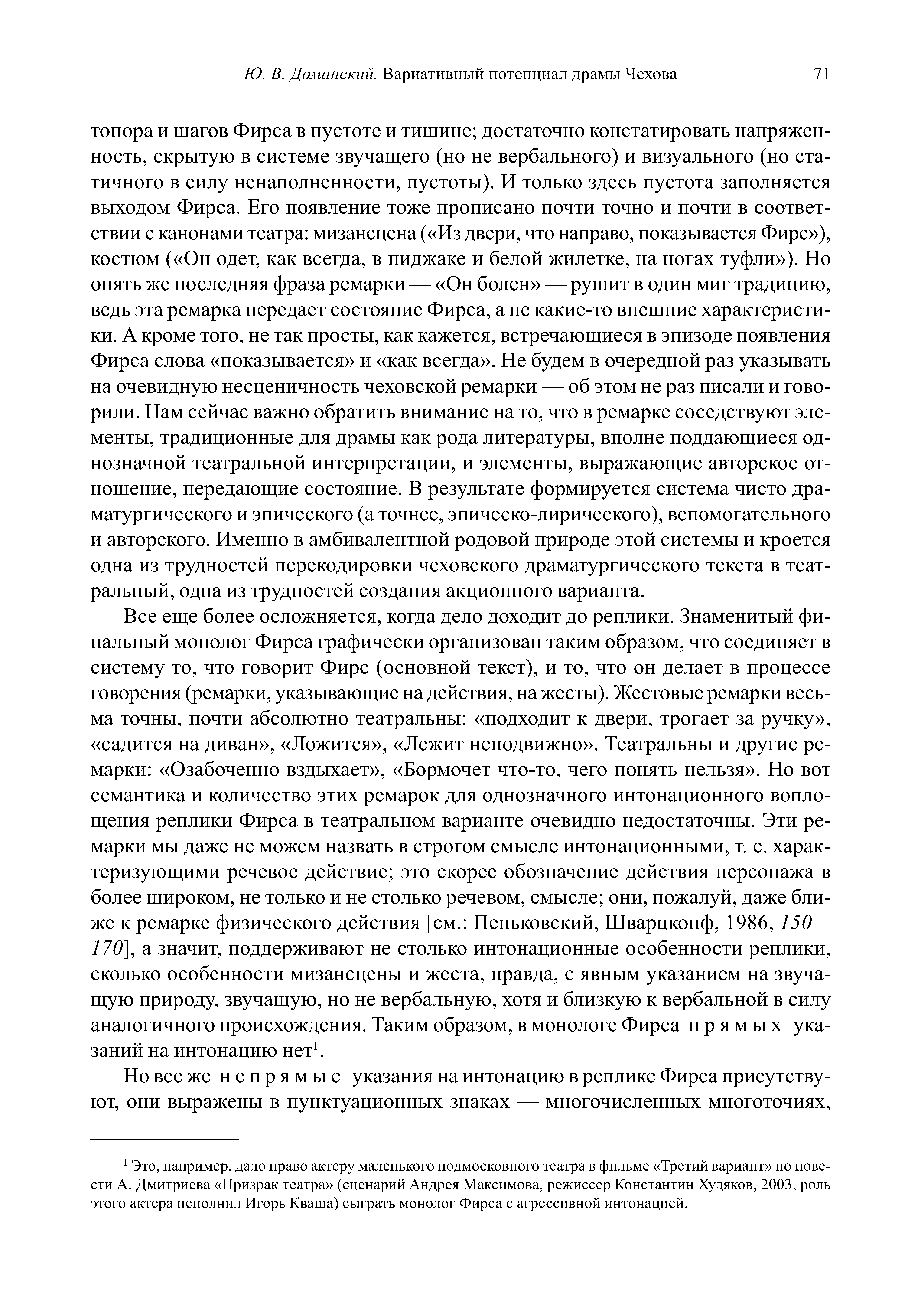 топора и шагов Фирса в пустоте и тишине; достаточно констатировать напряжен ность, скрытую в системе звучащего (но не вербального) и визуального (но ста тичного в силу ненаполненности, пустоты). И только здесь пустота заполняется выходом Фирса. Его появление тоже прописано почти точно и почти в соответ ствии с канонами театра: мизансцена («Из двери, что направо, показывается Фирс»), костюм («Он одет, как всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли»). Но опять же последняя фраза ремарки — «Он болен» — рушит в один миг традицию, ведь эта ремарка передает состояние Фирса, а не какие-то внешние характеристи ки. А кроме того, не так просты, как кажется, встречающиеся в эпизоде появления Фирса слова «показывается» и «как всегда». Не будем в очередной раз указывать на очевидную несценичность чеховской ремарки — об этом не раз писали и гово рили. Нам сейчас важно обратить внимание на то, что в ремарке соседствуют эле менты, традиционные для драмы как рода литературы, вполне поддающиеся од нозначной театральной интерпретации, и элементы, выражающие авторское от ношение, передающие состояние. В результате формируется система чисто дра матургического и эпического (а точнее, эпическо-лирического), вспомогательного и авторского. Именно в амбивалентной родовой природе этой системы и кроется одна из трудностей перекодировки чеховского драматургического текста в теат ральный, одна из трудностей создания акционного варианта. топора и шагов Фирса в пустоте и тишине; достаточно констатировать напряжен ность, скрытую в системе звучащего (но не вербального) и визуального (но ста тичного в силу ненаполненности, пустоты). И только здесь пустота заполняется выходом Фирса. Его появление тоже прописано почти точно и почти в соответ ствии с канонами театра: мизансцена («Из двери, что направо, показывается Фирс»), костюм («Он одет, как всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли»). Но опять же последняя фраза ремарки — «Он болен» — рушит в один миг традицию, ведь эта ремарка передает состояние Фирса, а не какие-то внешние характеристи ки. А кроме того, не так просты, как кажется, встречающиеся в эпизоде появления Фирса слова «показывается» и «как всегда». Не будем в очередной раз указывать на очевидную несценичность чеховской ремарки — об этом не раз писали и гово рили. Нам сейчас важно обратить внимание на то, что в ремарке соседствуют эле менты, традиционные для драмы как рода литературы, вполне поддающиеся од нозначной театральной интерпретации, и элементы, выражающие авторское от ношение, передающие состояние. В результате формируется система чисто дра матургического и эпического (а точнее, эпическо-лирического), вспомогательного и авторского. Именно в амбивалентной родовой природе этой системы и кроется одна из трудностей перекодировки чеховского драматургического текста в теат ральный, одна из трудностей создания акционного варианта.Все еще более осложняется, когда дело доходит до реплики. Знаменитый фи нальный монолог Фирса графически организован таким образом, что соединяет в систему то, что говорит Фирс (основной текст), и то, что он делает в процессе говорения (ремарки, указывающие на действия, на жесты). Жестовые ремарки весь ма точны, почти абсолютно театральны: «подходит к двери, трогает за ручку», «садится на диван», «Ложится», «Лежит неподвижно». Театральны и другие ре марки: «Озабоченно вздыхает», «Бормочет что-то, чего понять нельзя». Но вот семантика и количество этих ремарок для однозначного интонационного вопло щения реплики Фирса в театральном варианте очевидно недостаточны. Эти ре марки мы даже не можем назвать в строгом смысле интонационными, т. е. харак теризующими речевое действие; это скорее обозначение действия персонажа в более широком, не только и не столько речевом, смысле; они, пожалуй, даже бли же к ремарке физического действия [см.: Пеньковский, Шварцкопф, 1986, 150— 770], а значит, поддерживают не столько интонационные особенности реплики, сколько особенности мизансцены и жеста, правда, с явным указанием на звуча щую природу, звучащую, но не вербальную, хотя и близкую к вербальной в силу аналогичного происхождения. Таким образом, в монологе Фирса п р я м ы х ука заний на интонацию нет1. Но все же н е п р я м ы е указания на интонацию в реплике Фирса присутству ют, они выражены в пунктуационных знаках — многочисленных многоточиях, 1Это, например, дало право актеру маленького подмосковного театра в фильме «Третий вариант» по пове сти А. Дмитриева «Призрак театра» (сценарий Андрея Максимова, режиссер Константин Худяков, 2003, роль этого актера исполнил Игорь Кваша) сыграть монолог Фирса с агрессивной интонацией. 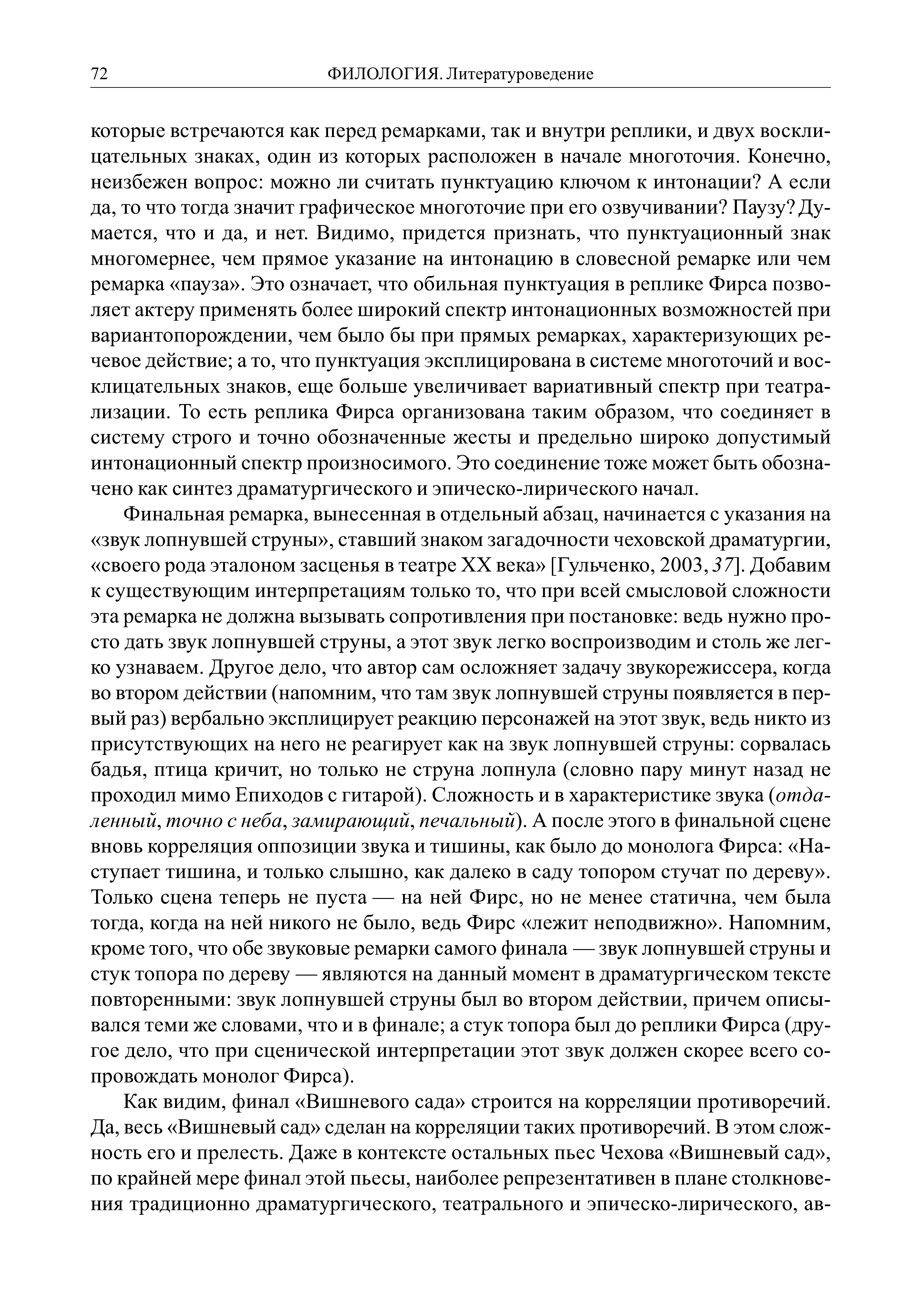 которые встречаются как перед ремарками, так и внутри реплики, и двух воскли цательных знаках, один из которых расположен в начале многоточия. Конечно, неизбежен вопрос: можно ли считать пунктуацию ключом к интонации? А если да, то что тогда значит графическое многоточие при его озвучивании? Паузу? Ду мается, что и да, и нет. Видимо, придется признать, что пунктуационный знак многомернее, чем прямое указание на интонацию в словесной ремарке или чем ремарка «пауза». Это означает, что обильная пунктуация в реплике Фирса позво ляет актеру применять более широкий спектр интонационных возможностей при вариантопорождении, чем было бы при прямых ремарках, характеризующих ре чевое действие; а то, что пунктуация эксплицирована в системе многоточий и вос клицательных знаков, еще больше увеличивает вариативный спектр при театра лизации. То есть реплика Фирса организована таким образом, что соединяет в систему строго и точно обозначенные жесты и предельно широко допустимый интонационный спектр произносимого. Это соединение тоже может быть обозна чено как синтез драматургического и эпическо-лирического начал. которые встречаются как перед ремарками, так и внутри реплики, и двух воскли цательных знаках, один из которых расположен в начале многоточия. Конечно, неизбежен вопрос: можно ли считать пунктуацию ключом к интонации? А если да, то что тогда значит графическое многоточие при его озвучивании? Паузу? Ду мается, что и да, и нет. Видимо, придется признать, что пунктуационный знак многомернее, чем прямое указание на интонацию в словесной ремарке или чем ремарка «пауза». Это означает, что обильная пунктуация в реплике Фирса позво ляет актеру применять более широкий спектр интонационных возможностей при вариантопорождении, чем было бы при прямых ремарках, характеризующих ре чевое действие; а то, что пунктуация эксплицирована в системе многоточий и вос клицательных знаков, еще больше увеличивает вариативный спектр при театра лизации. То есть реплика Фирса организована таким образом, что соединяет в систему строго и точно обозначенные жесты и предельно широко допустимый интонационный спектр произносимого. Это соединение тоже может быть обозна чено как синтез драматургического и эпическо-лирического начал.Финальная ремарка, вынесенная в отдельный абзац, начинается с указания на «звук лопнувшей струны», ставший знаком загадочности чеховской драматургии, «своего рода эталоном засценья в театре XX века» [Гульченко, 2003,3 7]. Добавим к существующим интерпретациям только то, что при всей смысловой сложности эта ремарка не должна вызывать сопротивления при постановке: ведь нужно про сто дать звук лопнувшей струны, а этот звук легко воспроизводим и столь же лег ко узнаваем. Другое дело, что автор сам осложняет задачу звукорежиссера, когда во втором действии (напомним, что там звук лопнувшей струны появляется в пер вый раз) вербально эксплицирует реакцию персонажей на этот звук, ведь никто из присутствующих на него не реагирует как на звук лопнувшей струны: сорвалась бадья, птица кричит, но только не струна лопнула (словно пару минут назад не проходил мимо Епиходов с гитарой). Сложность и в характеристике звука (<отдаленный, точно с неба, замирающий, печальный). А после этого в финальной сцене вновь корреляция оппозиции звука и тишины, как было до монолога Фирса: «На ступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву». Только сцена теперь не пуста — на ней Фирс, но не менее статична, чем была тогда, когда на ней никого не было, ведь Фирс «лежит неподвижно». Напомним, кроме того, что обе звуковые ремарки самого финала — звук лопнувшей струны и стук топора по дереву — являются на данный момент в драматургическом тексте повторенными: звук лопнувшей струны был во втором действии, причем описы вался теми же словами, что и в финале; а стук топора был до реплики Фирса (дру гое дело, что при сценической интерпретации этот звук должен скорее всего со провождать монолог Фирса). Как видим, финал «Вишневого сада» строится на корреляции противоречий. Да, весь «Вишневый сад» сделан на корреляции таких противоречий. В этом слож ность его и прелесть. Даже в контексте остальных пьес Чехова «Вишневый сад», по крайней мере финал этой пьесы, наиболее репрезентативен в плане столкнове ния традиционно драматургического, театрального и эпическо-лирического, ав 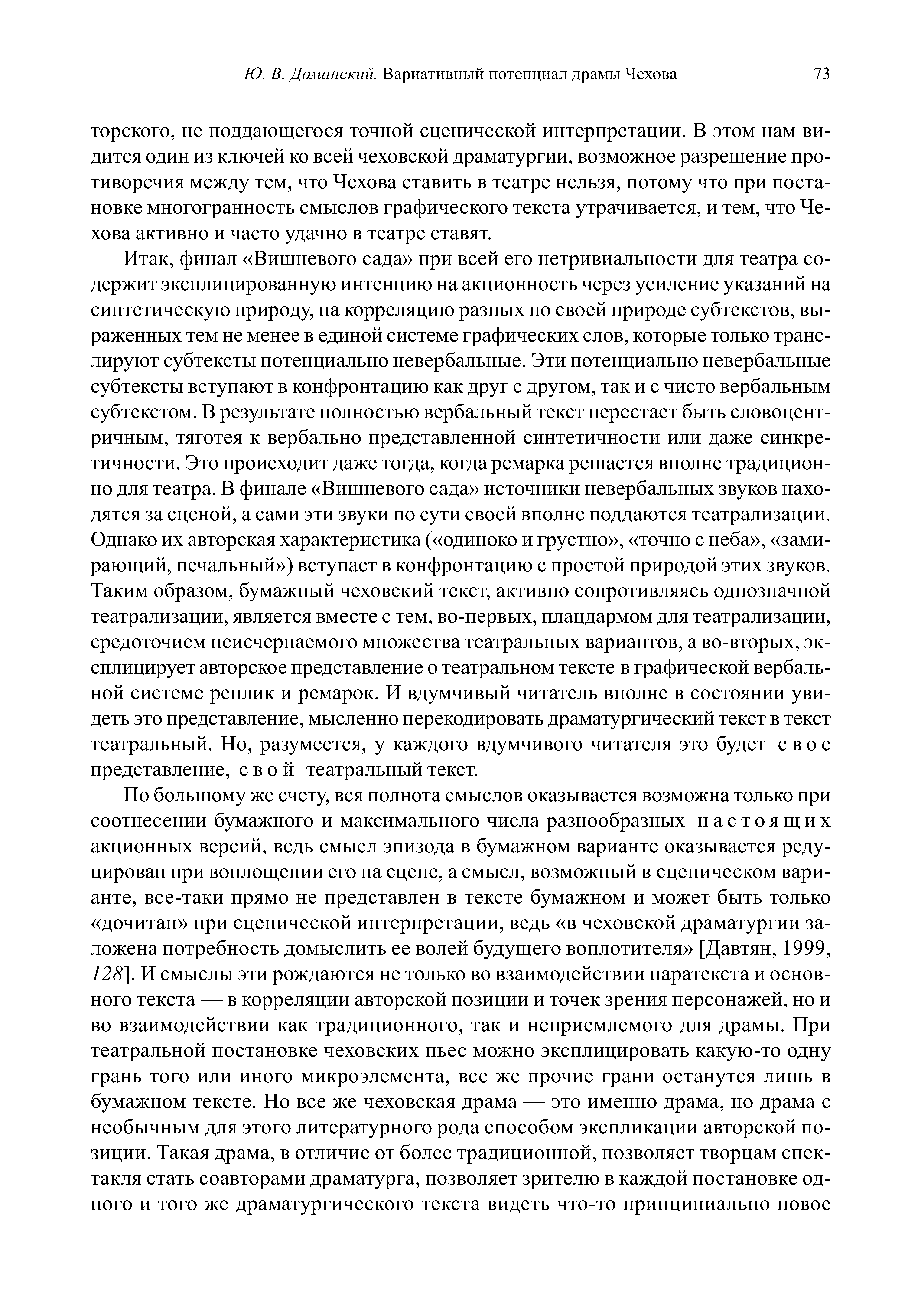 торского, не поддающегося точной сценической интерпретации. В этом нам ви дится один из ключей ко всей чеховской драматургии, возможное разрешение про тиворечия между тем, что Чехова ставить в театре нельзя, потому что при поста новке многогранность смыслов графического текста утрачивается, и тем, что Че хова активно и часто удачно в театре ставят. торского, не поддающегося точной сценической интерпретации. В этом нам ви дится один из ключей ко всей чеховской драматургии, возможное разрешение про тиворечия между тем, что Чехова ставить в театре нельзя, потому что при поста новке многогранность смыслов графического текста утрачивается, и тем, что Че хова активно и часто удачно в театре ставят.Итак, финал «Вишневого сада» при всей его нетривиальности для театра со держит эксплицированную интенцию на акционность через усиление указаний на синтетическую природу, на корреляцию разных по своей природе субтекстов, вы раженных тем не менее в единой системе графических слов, которые только транс лируют субтексты потенциально невербальные. Эти потенциально невербальные субтексты вступают в конфронтацию как друг с другом, так и с чисто вербальным субтекстом. В результате полностью вербальный текст перестает быть словоцент- ричным, тяготея к вербально представленной синтетичности или даже синкре- тичности. Это происходит даже тогда, когда ремарка решается вполне традицион но для театра. В финале «Вишневого сада» источники невербальных звуков нахо дятся за сценой, а сами эти звуки по сути своей вполне поддаются театрализации. Однако их авторская характеристика («одиноко и грустно», «точно с неба», «зами рающий, печальный») вступает в конфронтацию с простой природой этих звуков. Таким образом, бумажный чеховский текст, активно сопротивляясь однозначной театрализации, является вместе с тем, во-первых, плацдармом для театрализации, средоточием неисчерпаемого множества театральных вариантов, а во-вторых, эк сплицирует авторское представление о театральном тексте в графической вербаль ной системе реплик и ремарок. И вдумчивый читатель вполне в состоянии уви деть это представление, мысленно перекодировать драматургический текст в текст театральный. Но, разумеется, у каждого вдумчивого читателя это будет с в о е представление, с в о й театральный текст. По большому же счету, вся полнота смыслов оказывается возможна только при соотнесении бумажного и максимального числа разнообразных н а с т о я щ и х акционных версий, ведь смысл эпизода в бумажном варианте оказывается реду цирован при воплощении его на сцене, а смысл, возможный в сценическом вари анте, все-таки прямо не представлен в тексте бумажном и может быть только «дочитан» при сценической интерпретации, ведь «в чеховской драматургии за ложена потребность домыслить ее волей будущего воплотителя» [Давтян, 1999, 128]. И смыслы эти рождаются не только во взаимодействии паратекста и основ ного текста — в корреляции авторской позиции и точек зрения персонажей, но и во взаимодействии как традиционного, так и неприемлемого для драмы. При театральной постановке чеховских пьес можно эксплицировать какую-то одну грань того или иного микроэлемента, все же прочие грани останутся лишь в бумажном тексте. Но все же чеховская драма — это именно драма, но драма с необычным для этого литературного рода способом экспликации авторской по зиции. Такая драма, в отличие от более традиционной, позволяет творцам спек такля стать соавторами драматурга, позволяет зрителю в каждой постановке од ного и того же драматургического текста видеть что-то принципиально новое 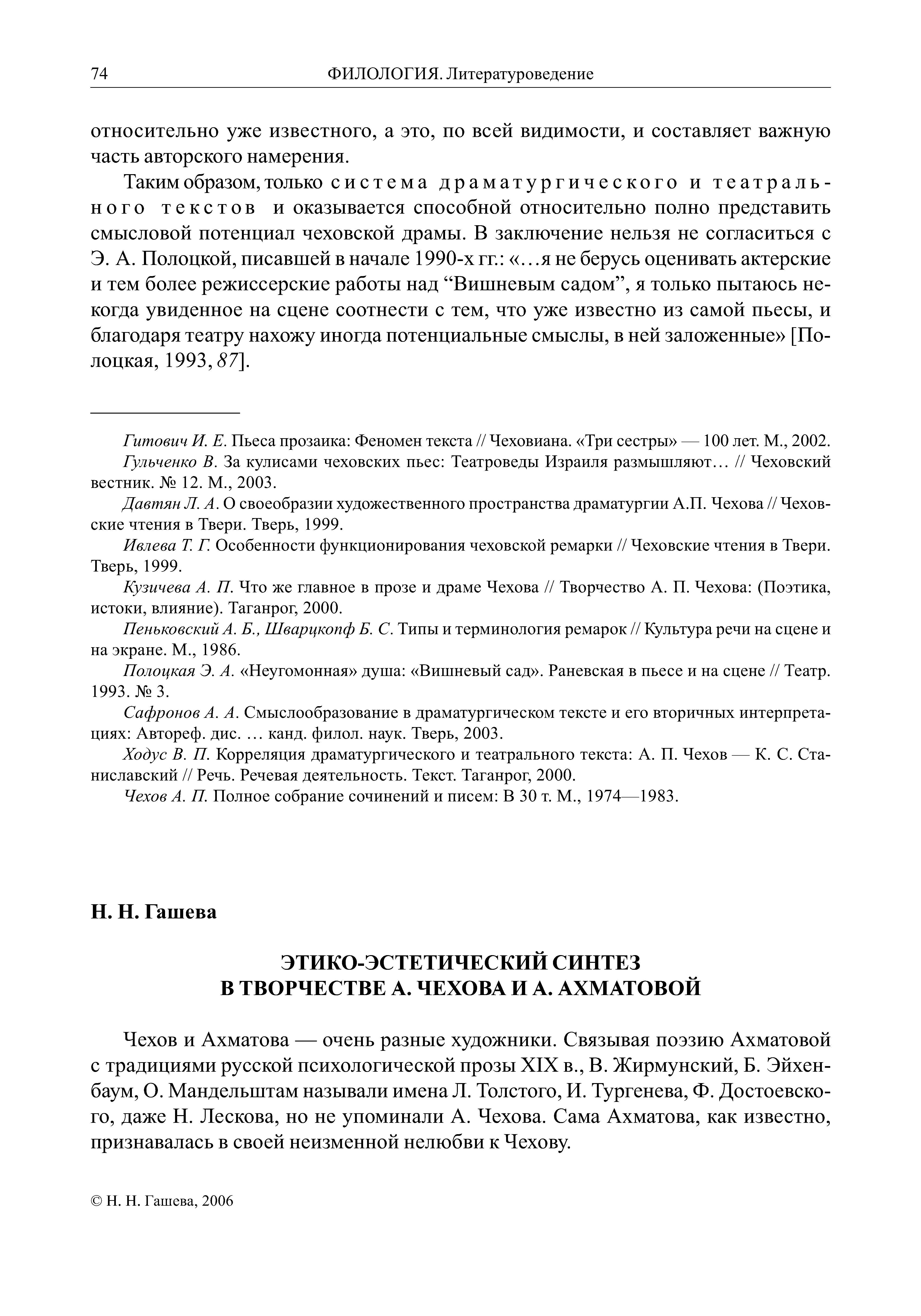 относительно уже известного, а это, по всей видимости, и составляет важную часть авторского намерения. относительно уже известного, а это, по всей видимости, и составляет важную часть авторского намерения.Таким образом, только с и с т е м а д р а м а т у р г и ч е с к о г о и те а тр а ль н о г о т е к с т о в и оказывается способной относительно полно представить смысловой потенциал чеховской драмы. В заключение нельзя не согласиться с Э. А. Полоцкой, писавшей в начале 1990-х гг.: «.. .я не берусь оценивать актерские и тем более режиссерские работы над “Вишневым садом”, я только пытаюсь не когда увиденное на сцене соотнести с тем, что уже известно из самой пьесы, и благодаря театру нахожу иногда потенциальные смыслы, в ней заложенные» [По лоцкая, 1993,57]. Гитович77. Е.Пьеса прозаика: Феномен текста // Чеховиана. «Три сестры» — 100 лет. М., 2002. ГульченкоВ.За кулисами чеховских пьес: Театроведы Израиля размышляют... // Чеховский вестник. № 12. М., 2003. Давтян Л. А. О своеобразии художественного пространства драматургии А.П. Чехова // Чехов ские чтения в Твери. Тверь, 1999. ИвлеваТ.Г.Особенности функционирования чеховской ремарки // Чеховские чтения в Твери. Тверь, 1999. КузичеваА.77. Что же главное в прозе и драме Чехова // Творчество А. П. Чехова: (Поэтика, истоки, влияние). Таганрог, 2000. ПенъковскийА.Б.,ШварцкопфБ.С.Типы и терминология ремарок // Культура речи на сцене и на экране. М., 1986. ПолоцкаяЭ.А.«Неугомонная» душа: «Вишневый сад». Раневская в пьесе и на сцене // Театр. 1993. № 3. СафроновА.А.Смыслообразование в драматургическом тексте и его вторичных интерпрета циях: Автореф. дне. канд. филол. наук. Тверь, 2003. Ходус В.77. Корреляция драматургического и театрального текста: А. П. Чехов — К. С. Ста ниславский // Речь. Речевая деятельность. Текст. Таганрог, 2000. ЧеховА.77. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М., 1974— 1983. Н. Н. ГашеваЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ В ТВОРЧЕСТВЕ А. ЧЕХОВА И А. АХМАТОВОЙЧехов и Ахматова — очень разные художники. Связывая поэзию Ахматовой с традициями русской психологической прозы XIX в., В. Жирмунский, Б. Эйхен баум, О. Мандельштам называли имена Л. Толстого, И. Тургенева, Ф. Достоевско го, даже Н. Лескова, но не упоминали А. Чехова. Сама Ахматова, как известно, признавалась в своей неизменной нелюбви к Чехову. © Н. Н. Гашева, 2006 |
