Риторика Теория и практика речевой коммуникации - Зарецкая Е. Н.. Теория и практика
 Скачать 2.7 Mb. Скачать 2.7 Mb.
|
Действие — цель— результат — деятель — место — время — способ (орудие) Метонимия как перенос названия имени основывается на смежности значений, в основном пространственной, временной и причинно-следственной. Важным свойством метонимии является то, что связь между предметами предполагает, что предмет, имя которого используется, существует независимо от предмета, на который это имя указывает, и оба они не составляют единого целого. При метонимии заменяемое и заменяющее понятия не имеют общей семантической части. Иначе говоря, метонимия действует в области непересекающихся классов. Этим метонимия отличается от метафоры (см. ниже). При метонимии переход от исходного понятия (И)к результирующему понятию (Р)осуществляется через промежуточное понятие (П), которое является объемлющим для И и Р. В качестве примера рассмотрим фразу: "Prenez votre César" (Возьмите вашего Цезаря), обращенную учителем к своим ученикам во время урока, посвященного изучению "De Bello Gallico". Промежуточным понятием здесь будет пространственно-временное единство, включающее жизнь прославленного консула, его любовные похождения, его литературное творчество, его участие в войнах, его город, всю его эпоху. И в этом единстве Цезарь и его книга будут связаны отношением смежности. При метонимии используются коннотативные семы (элементы значения), т.е. семы смежные, принадлежащие к более обширному целому и входящие в определение этого целого. Существуют два источника коннотации: сопоставление одного слова с другими (здесь имеется в виду как сопоставление означающих, так и сопоставление означаемых) и сопоставление денотата слова с другими сущностями реального мира (следовательно, сущностями экстралингвистическими). Языковые коннотации возникают на основе сопоставления данного слова с единицами: а) фонетическая (звуковая) структура которых частично совпадает с фонетической структурой данного слова; б) которые могут быть подставлены вместо данного слова в заданном контексте; в) с которыми может сочетаться данное слово; г) в которые данное слово входит в качестве составной части; д) семантическая структура которых частично совпадает с семантической структурой данного слова; е) чья графическая структура частично совпадает с графической структурой данного слова. Эти ряды сопоставлений виртуальны и могут не совпадать при переходе от одного говорящего к другому. Поскольку любой контекст в первую очередь налагает запрет на часть форм и значений входящей в него лексемы, можно считать, что привычная сеть сопоставлений относится к формам и значениям данного слова, которые несовместимы с данным конкретным контекстом. Вторичная сеть может быть получена путем применения правил а — е к данному слову, третичная сеть — путем применения тех же правил к результату их первого применения и т.д. Основные типы коннотации быстро стали для нас привычными, и в обыденной речи мы сталкиваемся с различными классами более или менее устойчивых метонимических образований, таких, например, как класс "знаков" для той или иной группы лиц: шляпа, тюфяк, лопух, конфетка... И может быть, именно эта "естественная предрасположенность" метонимии к клишированности сделала ее столь непопулярной в современной литературе, поскольку там она встречается гораздо реже, чем в обыденной речи. Можно привести пример чистой, "неклишированной" метонимии, заимствованный из спортивного лексикона: Форды отпустили газ [= замедлили ход, остановились] (Репортаж с автомобильной гонки). Форды: инструмент — агент; отпустили газ: причина — следствие. Если метафора строится на минимальном семантическом пересечении (см. ниже), метонимия может охватывать сколь угодно большое "объемлющее" множество. Таким образом, в предельном случае эти фигуры совпадают, хотя это не обосновано ни внутренними, ни внешними причинами. Такая возможность (чтобы не сказать опасность) широко используется в рекламе, где необходимое объемлющее множество как бы создается с помощью текста, но в результате мы часто сталкиваемся с некорректными с логической точки зрения утверждениями. Допустим, что на рекламе изображена мощная спортивная машина, которая через метонимию олицетворяет человека действия. Рекламная надпись гласит: "СПРИНТ — СИГАРЕТА ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВИЯ". Если связь спринт — мощный автомобиль — человек действия очевидна, то связь между спринтом и сигаретой абсолютно произвольна... В этой рекламной надписи не используются имеющиеся типы метонимических отношений, а устанавливаются совершенно новые связи между объектами. Особым видом метонимии является синекдоха. Синекдоха (греч. synekdoche, буквально — соотнесение) — словесный прием, посредством которого целое (вообще нечто большее) выявляется через свою часть (нечто меньшее, входящее в большее). Например: "Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину?.." (Н.В. Гоголь), где совмещены значения "человек с бородой" и "борода"; "И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ" (М.Ю. Лермонтов) — о жандармах. Синекдоха (synekdochḗ — соотнесение) отличается от метонимии тем, что оба предмета составляют некоторое единство, соотносясь как часть с целым, а не существуют совершенно автономно. Синекдоха реализуется несколькими разными способами: 1. Единственное число употребляется вместо множественного: Все спит: и человек, и зверь, и птица (Гоголь). Выразительность в русском языке достигается здесь за счет того, что категория числа является обязательной (см. выше), т.е. не может не быть выражена. Сознательное изменение грамматического числа при сохранении смыслового воспринимается как риторический прием. 2. Множественное число употребляется вместо единственного: Мы все глядим в Наполеоны (Пушкин). 3. Употребление части вместо целого: Имеете ли вы в чем-нибудь нужду? Да, в крыше для моего семейства (Герцен)1. 4. Употребление родового понятия вместо видового (обобщающая синекдоха): Ну что ж, садись, светило (Маяковский). 5. Употребление видового понятия вместо родового (сужающая синекдоха): Пуще всего береги копейку (Гоголь). Тут имеется в виду не копейка, а деньги, т.е. это, во-первых, видовое понятие вместо родового, а во-вторых, единственное число вместо множественного, т.е. здесь синекдоха применена дважды. В примере А за окном зулусская ночь метонимия ступенчатая: (черный негр зулус). Особый интерес вызывает разновидность синекдохи, в которой осуществляется переход от частного к общему, от части к целому, от меньшего к большему, от вида к роду. Отметим сразу же расплывчатость всех этих понятий, которые в науке принято изображать в виде "дерева" или "пирамиды", однако "деревья" и "пирамиды" необязательно отражают научное представление о мире. Нас часто устраивает и таксономия на уровне первобытного сознания. Мы можем ограничиться критерием античных риторов: большее вместо меньшего. В произвольно выбранном литературном тексте вряд ли найдется много явных примеров обобщающей синекдохи: Людей называют "простые смертные", но это слово с таким же успехом применимо и к животным, которые — как и мы — смертны. Вот более яркий пример, заимствованный у Р. Кено: Он продолжил свой путь: голова была занята мыслями, ноги четко вышагивали по дороге, и свой маршрут он закончил без происшествий. Дома его ожидал редис, и кот, который мяукнул в надежде получить сардину, и Амели, испытывающая законное чувство беспокойства по поводу подгоревшего рагу. Хозяин дома с хрустом жует овощ, гладит животное и на вопрос представителя человеческого рода о том, как нынче обстоят дела, отвечает: "Так себе". Этого примера достаточно для иллюстрации частичного сокращения сем, приводящего к расширению значения слова. Легко увидеть, что обобщающая синекдоха придает речи более абстрактный, "философский" характер, который в этой натуралистической пародии очевидным образом выделяется на фоне конкретики контекста. Сужающая синекдоха, без сомнения, является гораздо более распространенным тропом, особенно в романах. Р. Якобсон имел в виду сужающую синекдоху, смешивающуюся в его концепции с метонимией, когда писал о предрасположенности "реалистических" школ к метонимии. Однозначное, адекватное восприятие текста обеспечивается только тогда, когда новый, подставляемый термин сохраняет "специфичность" старого, т.е. происходит как бы вложение одного в другое. Модель "вложения классов" исходно предполагает неоднородность своих элементов, поскольку на каждом новом уровне меняется критерий деления на более мелкие классы. Это неструктурированная классификация, где мы находим два типа классов: 1. Классы, в которые входят различные, но эквивалентные с выбранной точки зрения единицы. 2. Классы, включающие различные части организованного целого. В классифицирующих "деревьях" семы могут сохраняться при движении сверху вниз по пирамиде (1) или распределяться между составными частями (2). Обобщающая синекдоха или сужающая синекдоха сводятся к замене одной единицы на другую, причем во второй отсутствуют некоторые семы, присущие первой. Существенными называются семы, которые необходимы для дискурса, то есть семы, упразднение которых делает его непонятным. Для того чтобы сообщение сохранило "понятность", следует позаботиться о сохранении существенных сем. Рассмотрим, например, описание убийства в романе. Орудие убийства может быть описано при помощи таких слов, как: кинжал, оружие, предмет (пример Ж. Дюбуа). Существенная для сцены убийства сема (без дальнейших уточнений назовем ее "агрессивно-смертоносной") присутствует в значении двух первых слов, но отсутствует в значении третьего. В значении первого слова она окружена дополнительной "несущественной" информацией — не избыточной, но побочной. Таким образом, следует различать две ступени замены: изменения первой ступени затрагивают только побочную информацию; существенные семы при этом сохраняются (оружие вместо кинжал). При изменениях второй ступени уничтожаются существенные семы (предмет вместо оружие). Изменения первой ступени обычно проходят незамеченными: они выявляются только в процессе семантического анализа дискурса. Первая ступень входит в "допустимую зону", где говорящий сам может устанавливать уровень общности определений при выборе лексики. Что касается изменений второй ступени, то они однозначно воспринимаются как тропы: к ним можно прибегать только в том случае, когда существенные семы в силу семантической избыточности текста уже присутствуют в контексте. Например, слово железо в принципе может употребляться вместо кинжал. Подстановка слова железо может осуществляться по трем рядам, попарные пересечения которых соответствуют отсутствующим в сообщении понятиям. Переходы, осуществляемые при подобной модификации: значение слова кинжал сужается, и мы получаем лезвие, клинок, затем клинок обобщается до значения твердый металл, а затем вновь происходит сужение: из словосочетания твердый металл получается железо. Ни клинок, ни кинжал реально не названы в тексте. Но существенной семой в ситуации убийства, как мы уже говорили, является "агрессивно-смертоносный", а она как раз и теряется при этих переходах... Семантической связи, существующей между сырьем (железо) и готовым изделием (кинжал), недостаточно для того, чтобы восстановить смысл сообщения, поскольку в других контекстах слово железо может обозначать объекты, не связанные с идеей агрессии, как, например, в следующем предложении Железо, которому найдется лучшее применение, будет возделывать землю. Здесь со словом железо (благодаря выражению лучшее применение)можно соотнести две нулевые ступени (оружие и плуг). Или в следующей конструкции Золото [пшеница] скошено железом, хотя в этом примере синекдоха имеет легкую метафорическую окраску. И только контекст, вероятность перехода сем в другие единицы смысла повествования, другими словами, семантическая избыточность, позволяют свести два последних употребления к их "сельскохозяйственному" значению. Одним из самых распространенных приемов выразительности является сравнение (лат. comparatio) — троп, категория стилистики и поэтики, образное словесное выражение, в котором изображаемое явление уподобляется другому по какому-либо общему для них признаку с целью выявить в объекте сравнения новые важные свойства. Например, уподобление (сопоставление) Безумье вечное поэта — как свежий ключ среди руин... (Вл.С. Соловьев) косвенно вызывает представление о незатухающем биении и "бесконечной" живительности поэтического слова на фоне "конечной" эмпирической реальности. Сравнение включает в себя сравниваемый предмет (объект сравнения), предмет, с которым происходит сопоставление (средство сравнения), и их общий признак (основание сравнения). Ценность сравнения как акта художественного познания в том, что сближение разных предметов помогает раскрыть в объекте сравнения, кроме основного признака, ряд дополнительных, что значительно обогащает художественное впечатление. Сравнение может выполнять изобразительную (И кудри их белы, как утренний снег над славной главою кургана — А.С. Пушкин), выразительную (Прекрасна, как ангел небесный — М.Ю. Лермонтов) функции или совмещать их обе. Обычной формой сравнения служит соединение двух его членов с помощью союзов как, словно, подобно, будто и т.д.; нередко встречается и бессоюзное сравнение (В железных латах самовар шумит домашним генералом — Н.А. Заболоцкий). Сравнение — это сопоставление, таким образом, двух явлений с целью пояснения одного через другое. Такого рода подача описания предмета типична для человеческого мышления. Часто бывает трудно прямо описать какой-то объект, но легко отличить его от других объектов или найти в нем что-то общее с другими объектами и таким образом определить сам этот объект. Такой способ описания известен издревле и очень распространен. Что значит, например, эстетический компонент как таковой? Что такое красивый мужчина? Красивый мужчина — тот, который по каким-то признакам отличается от других мужчин и по каким-то другим с ними совпадает. Никак иначе это объяснить невозможно. По каким-то признакам у него есть приоритет над прочими мужчинами, а по другим он похож на всех прочих. И когда говорят: "Он был так же красив, как Марлон Брандо", это означает наличие известного эталона, другой человек подводится под этот эталон и через него характеризуется. На сравнении очень многое основано в человеческой коммуникации. Человеку свойственно сравнивать всё со всем, имея внутреннее ощущение нормы и по отношению к этой норме определять тех, кто эту норму превосходит, или тех, кто ей еще не соответствует (ср. доказательство по аналогии выше). Сравнение — доступный, легкий, но не самый глубокий способ описания. Когда трудно что-либо описать впрямую, легче сравнить и тем самым показать достоинства и недостатки описываемого объекта или подчеркнуть определенные черты. Сравнение настолько свойственно человеческому мышлению, что естественные языки знают даже специальные грамматические и стилистические формы сравнения. В русском языке реализуются следующие способы сравнения: 1) форма творительного падежа: пыль столбом; 2) сравнительная синтаксическая конструкция: лучше меньше, да лучше; 3) сравнительный оборот: Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял (М.Ю. Лермонтов); Впрочем, это были скорее карикатуры, чем портреты (Н.В. Гоголь); 4) лексический способ: Ее любовь к сыну была подобна безумию. Сравнительный оборот очень распространен в речи. Анализируя спонтанную речь, можно обратить внимание на то, что сравнительных оборотов в ней очень много. Важно помнить: то, что частотно, всегда неглубоко — максимальная глубина соотносима с нестандартным и необычным. На приеме сравнения может быть построено не только словосочетание, но и текст любого объема. В нижеприведенном примере из поэмы "Мертвые души" Н.В. Гоголя сравнение реализуется на уровне абзаца. Если троп реализуется на тексте большем, чем словосочетание, он называется развернутым и превращается в фигуру. Чичиков все еще стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу с тем, чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на все, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то, и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека: вмиг беззаботное выражение слетает с лица его, он силится припомнить, что позабыл oн. He платок ли? Но платок в кармане. Не деньги? Но деньги тоже в кармане. Все, кажется, при нем, а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что-то. Как можно передать выражение лица человека словами? Это сделать чрезвычайно трудно. Прямое описание, как правило, образа не создает. Вы читаете про выражение глаз, выражение лица, но зрительно плохо это себе представляете. Конечно, воображение работает, но у всех по-разному. Поэтому после одного и того же описания впечатление у разных людей будет разное, что легко доказывается подбором актеров на роли при экранизации художественного произведения. И сколько режиссеров, столько решений. Два режиссера иногда подбирают совершенно разные актерские типажи на одну и ту же роль, и оба абсолютно уверены, что это идеальная модель, точно соответствующая тексту. Все читали описание портрета Наташи Ростовой, и зрительный образ героини у всех разный. На естественном языке трудно передать то, что передает Body Language, что закономерно: если человек в речи пользуется двумя системами, то они должны быть устроены так, чтобы дополнять друг друга, т.е. средствами первой системы выражать одну информацию, а средствами второй — другую; зона пересечения должна быть невелика (см. ниже). Именно поэтому на естественном языке выражение лица крайне трудно описать. Гоголь хотел передать определенное выражение лица человека и, как очень прозорливый писатель, понимал, что ему адекватно не описать это выражение впрямую. И тогда он использовал хитрый способ: он дал читателю возможность самому представить требуемое выражение лица. Он поместил героя в психологическую ситуацию, когда это выражение лица естественно. Каждому из нас легко представить себе кого-нибудь в ситуации, когда он вдруг понял, что что-то забыл. Построенный на приеме сравнения, этот отрывок очень удачен именно потому, что сравнение здесь позволяет смоделировать ситуацию, и зрительный образ, который обычно передается Body Language, возникнет сам в сознании читателя. Надо быть большим писателем, чтобы понять, что есть вещи, которые не следует описывать словами, а их надо как бы образно переадресовывать. Безусловно, сравнение как прием выразительности может реализоваться не только на уровне абзаца, но и на уровне целого текста, причем не обязательно литературно-художественного. Сравнение реализуется и в других знаковых системах, например в кинематографе. Французский фильм "Супружеская жизнь" построен на принципе сравнения: супружеская пара во время бракоразводного процесс» вспоминает эпизоды совместной жизни, в первой серии показано восприятие мужем, во второй — восприятие тех же событий женой. Никакого психологического пересечения нет: события те же, а осмысление совершенно разное. Весь фильм построен на принципе сопоставления, и, конечно, никакого итога в конце не подводится. Какой может быть итог в человеческих отношениях? Просто даны два взгляда на одну и ту же проблему: взгляд мужчины и взгляд женщины. Представьте себе, что вас попросили описать какого-то человека. Вы можете начать говорить, что это человек такого-то возраста и пола, обладающий такими-то душевными качествами, такими-то внешними характеристиками и т.д. — это будет прямое описание. Вы можете сравнить этого человека с каким-то другим, хорошо известным — это будет описание через сравнение. А можете использовать особый способ (его часто применял, например, М. Булгаков): рассказать эпизоды жизни героя и пересказать впечатление, которое в этих эпизодах человек производил на других людей (при этом ничего не говоря о том, что это за человек). Через эпизоды и впечатления подается внутренняя характеристика человека, которая оказывается в этом случае выводом, сделанным читателем. Это значительно более тонко, чем если впрямую написать, что человек был скуп или добр, или гуманен, или справедлив, поскольку вывод лучше не декларировать, если он касается людей. Другое дело, что искусно поданные эпизоды приведут вас, видимо, к тому выводу, который желателен автору. Это самый трудный и самый сильный способ раскрытия человеческой личности. Этот путь — не сравнение, а операционное определение объекта описания. В деловых отношениях сравнение используется очень часто, например при подписании типового контракта. Вас адресуют к тому, что вам уже хорошо известно, — это упрощает понимание. А вот когда вам говорят, что деловые условия, в которых вы функционируете, напоминают условия, скажем, Германии 1946 года, то к такому сравнению надо относиться с большой мерой осторожности, потому что слово напоминают не есть сравнение. Надо спросить: "По каким параметрам и в какой мере напоминают?" Сегодняшнюю Россию часто сравнивают со многими странами. И каждое из таких сравнений не выдерживает последовательной критики, потому что если известная аналогия и существует с какими-то периодами мировой истории, то лишь частичная, которая должна быть специально оговорена. Сам по себе прием сравнения довольно поверхностный, поэтому, когда речь идет о чем-то серьезном, важном и значительном, лучше им не пользоваться. Однако в случае (вспомним Гоголя), когда речь идет о восприятии выражения лица человека, его движений и т.п., сравнение эффективно. Как передать словами танец? Невозможно. Но можно сказать человеку: "Вспомни, как ты первый раз в жизни смотрел "Жизель"; вспомни, кто в "Жизели" танцевал; вспомни впечатление, которое это на тебя произвело. То, что я хочу тебе рассказать, очень похоже". Сравнение хорошо, когда речь идет о восприятии чего-то, что впрямую не передается естественным языком, а проникает в сознание через образную структуру мышления. Так как образность плохо перекодируется в естественный язык (см. выше), то человеку надо дать возможность зрительно представить, т.е. включить другой — образный канал приема и передачи информации. У Гоголя сравнение очень удачно именно потому, что переадресуя к зрительному образу, передает информацию оптимально. Если вы хотите вызвать зрительный образ в сознании другого человека, сравните то, о чем вы говорите, с чем-то таким, что он видел и хорошо себе представляет, и тогда он сделает естественный логический перенос на сам объект. Сравнения бывают разных видов. 1. Сравнения типа синекдохи. Рассмотрим несколько употребительных образных сравнений: голый/червь, ясный/день, скучный/дождь, немой/карп, прекрасный/Аполлон, сильный/бык, один/перст. Эти пары получены из выражений типа: голый как червь (совершенно голый), ясный как день (совершенно ясный, совершенно очевидный) и т.п. Разумеется, эти стереотипные сравнения, в содержание которых говорящий часто и не вникает, во многом отличаются от "истинных" сравнений. Такие клише чаще всего функционируют как интенсификаторы, они выражают высокую степень качества с оттенком преувеличения, т.е. они функционируют как отдельные семантические единицы. Но на уровне описания можно разбить каждое из этих выражений на две части (как в приведенном выше перечне), и тогда становится очевидно, что первое слово соотносится со вторым как результирующее и исходное понятие обобщающей синекдохи, или, точнее, второе слово — главное в этих выражениях — сужает значение первого путем добавления к нему новых сем. Но здесь нет семантической фигуры, поскольку нет отклонения от лексического кода. Кстати говоря, именно поэтому в традиционной риторике образные сравнения рассматривались иногда как разновидность фигур мысли (а не как тропы или смысловые фигуры) или, точнее, как разновидность фигур вымысла. Образное сравнение является всего лишь способом описания объекта, оно "сближает разные предметы для того, чтобы лучше описать один из них" или же "сближает с той же целью два разных явления" (Цв. Тодоров). 2. Металогические сравнения. В отличие от рассмотренных выше сравнений, которые можно было бы назвать "истинными", "настоящими", риторические тропы и фигуры всегда "ложны". Например, высказывания типа Он такой же сильный, как его отец или Она красива, как ее сестра могут рассматриваться только как правильно построенные утверждения. Но когда "он" тщедушен, а "она" — уродина, снова возникает троп: в данном случае это ирония, которая определяется как фигура, воздействующая на референт сообщения. Очень многие риторические сравнения таковы, чаще всего они являются гиперболами. Переход от одного типа тропов к другому хорошо прослеживается на канонических примерах: богатый, как Крез (в принципе это гипербола, хотя состояние какого-нибудь миллиардера вполне может быть сравнимо с состоянием последнего царя Лидии) и Он просто Крез, где мы возвращаемся к сужающей синекдохе. 3. Метафорические сравнения. Некоторые образные сравнения могут рассматриваться как метафоры. Приведем следующие выражения: 1) ее ланиты свежи, как розы, 2) ее ланиты словно розы;3) розы ее ланит; 4) и на лице ее две розы. Только в первом выражении с точки зрения лексического кода все слова и словосочетания "нормальны" и совместимы друг с другом. Но уже во втором мы сталкиваемся с аномалией — отсутствием именной части составного именного сказуемого. Поскольку предельный класс здесь не указан, читатель должен сам произвести операцию редукции. Союзы как, словно устанавливают нетривиальное отношение эквивалентности между словами. В (3) и (4) мы имеем дело с метафорой. Метафора отличается от метафористического сравнения. Сравнение — это двучленная синтаксическая структура, которая нетривиальным образом объединяет два смысловых множества, в то время как метафора в строгом смысле слова с таким объединением никак не связана. В предложении Посадите тигра в мотор вашего автомобиля слово тигр воспринимается как метафора, поскольку с семантической точки зрения оно несовместимо с остальной частью сообщения. Эта несовместимость и порождает сравнение между наиболее вероятным для данного контекста понятием и понятием, реально присутствующим в сообщении: Бензин высшего качества = тигр. Метафора (греч. metaphorá — перенос) — вид тропа, перенесение свойств одного предмета (явления или аспекта бытия) на другой по принципу их сходства в каком-либо отношении или по контрасту. В отличие от сравнения, где присутствуют оба члена сопоставления (Как крылья, отрастали беды и отделяли от земли — Б.Л. Пастернак), метафора — это скрытое сравнение, в котором слова как, как будто, словно опущены, но подразумеваются. Очарованный поток (В.А. Жуковский), живая колесница мирозданья (Ф.И. Тютчев), жизни гибельный пожар (А.А. Блок), И Гамлет, мысливший пугливыми шагами (О.Э. Мандельштам) — во всех перечисленных метафорах различные признаки (то, чему уподобляется предмет и свойства самого предмета) представлены не в их качественной раздельности, как в сравнении, а в новом нерасчлененном единстве художественного образа. Из всех тропов метафора отличается особой экспрессивностью. Обладая неограниченными возможностями в сближении (нередко — неожиданном употреблении) самых различных предметов и явлений, по существу по-новому осмысливая предмет, метафора способна вскрыть, обнажить его внутреннюю природу; нередко метафора как своего рода микромодель является выражением индивидуально-авторского видения мира: Стихи мои! Свидетели живые за мир пролитых слез (Н.А. Некрасов); Мирозданье — лишь страсти разряды (Б.Л. Пастернак). В отличие от распространенной, "бытовой" метафоры (сошел с ума)индивидуальная метафора содержит высокую степень художественной информативности, так как выводит предмет (и слово) из автоматизма восприятия. В тех случаях, когда метафорический образ охватывает несколько фраз или абзацев (образы "до времени созрелого плода" в "Думе" М.Ю. Лермонтова, "тройки" в "Мертвых душах" Н.В. Гоголя) или даже распространяется на все произведение (чаще стихотворное: "Телега жизни" А.С. Пушкина), метафора называется развернутой и становится фигурой. По отношению к метафоре такие приемы выразительности, как оксюморон, олицетворение, антитеза, могут рассматриваться как ее разновидности или модификации. Метафора возникла в эпоху распада мифологического сознания (см. выше). В древнейшем мифологическом и пантеистическом сознании с его нерасчлененностью познаваемого мира и познающего мир человека метафора существовать не могла. Возникновение метафоры становится началом процесса абстрагирования и конкретных представлений, рождения художественного образа. Средневековое искусство и книжность, основанные на монотеистическом сознании, когда человеческая жизнь осмысляется как "предстояние" Богу и все в мире исполняется тайного, символического смысла (жизнь человека, история, явления природы и т.д.), создают сложную, но единую и цельную символическую систему, которая насквозь метафорична. Народное сознание (в отличие от книжного), с его календарем и приметами, знамениями, предсказаниями, создает свой вариант метафорической символики. Новое время, центральным звеном которого становится сам человек, а не постижение им "запредельного мира", ищет известного равновесия "я" и мира; и литература нового времени отражает этот процесс в так называемых "классических стилях" эпохи, лишенных, при всей их мощи, индивидуального начала, субъективной метафоричности. Эталоном такого равновесия стало творчество И.В. Гете и А.С. Пушкина. В поэзии начала XX в. происходит своеобразная метафоризация мира: метафора становится преобладающим средством необычайно интенсивного расширения творческой воли и свободы художника; гипертрофия воспринимающего мир "я" разрушает самодовлеющую суверенность мира, обращая его в субъективное инобытие, в "мнимость": "Только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение" (О.Э. Мандельштам). Осмысленная таким образом метафора уже, очевидно, перерастает функции тропа. И в современной литературе метафора не только средство обновления слова: повышенная метафоричность стиля может быть как свидетельством избыточности творческого воображения и личной инициативы художника (как бы перекрывающего собой открывающийся ему мир), так и возможностью — в известном смысле искусственно культивируемой — поддержать гаснущую экспрессию при встрече с ним. Метафора не сводится к простой замене смысла — это изменение смыслового содержания слова, которое может рассматриваться как результат действия двух операций: добавления и сокращения сем. Иначе говоря, метафора является результатом соположения двух синекдох. Рассмотрим пример, который приводит Ж. Дюбуа. Поэт с кругами смерти под глазами спускается в этот мир чудес. Чем засеет oн эту борозду, единственную на песчаном берегу, где раз в шесть часов, подобно неграмотной служанке, входящей в комнату, чтобы подготовить бумагу и письменный прибор, море в белом чепце раскладывает и перекладывает пустые буквы [букв. пустой алфавит] водорослей? Что подарит он ничего не ждущему в серой тишине застывшему миру? Совпадение (М. Деги). Эстетическое совершенство этого текста основано на многих приемах, в частности на легком насилии над лексическим материалом. Эти маленькие семантические "скандалы" обращают внимание на само сообщение. С формальной точки зрения, метафора представляет собой синтаксическую структуру, где сосуществуют в противоречивом единстве тождество двух означающих и несовпадение соответствующих им означаемых. Этот вызов (языковому) сознанию требует осуществления редукции, которая сводится к тому, что читатель пытается как-то обосновать наблюдаемое совпадение означающих. Очень важно, что в процессе редукции собственно языковые факторы никогда не ставятся под сомнение. Редукция осуществляется за счет внешних для риторического сознания условий. Позиция получателя научного сообщения была бы совсем иной. В научном тексте семантическая несовместимость такого рода может как отвергаться (в случае, когда сказанное признается неверным или бессмысленным), так и приниматься. Для высказываний такого типа характерны особые модальные рамки, такие, как, например, Опыт показывает, что... или Вопреки принятой точке зрения, X показал, что... В рамках поэтического прочтения текста такие меры предосторожности излишни, хотя в принципе их можно формулировать в аналогичной форме, но и тогда они будут нести другую смысловую нагрузку. A priori читатель поэтического текста всегда отождествляет код данного произведения с обычным языковым кодом; он тут же начинает выстраивать фрагменты классификаций по типу "дерева" или "пирамиды" в поисках уровня, на котором имеющиеся означаемые были бы эквивалентны. Когда мы рассматриваем два, пусть очень несхожих объекта, мы всегда можем найти в пирамиде вложенных классов "предельный" класс, который будет включать оба эти объекта, при том что во всех более дробных классах они фигурируют раздельно (см. выше). Термины тождественный, эквивалентный и сходный используются исключительно для того, чтобы примерно установить уровень "предельного" класса относительно всех тех классов, где оба означаемых выступают как разные единицы. Метафорическая редукция считается завершенной, когда читатель находит третье понятие, выполняющее роль шарнира между двумя другими (например, линейность — белый неровный край — черные удлиненные формы на светлом фоне).Процесс редукции сводится к поиску этого третьего понятия, будь то в пределах какого-либо дерева или какой-либо отражающей или не отражающей реальное положение вещей пирамиды. У каждого читателя может быть свое собственное семантическое представление. Главное — это найти самый короткий путь, соединяющий два объекта; поиски продолжаются до тех пор, пока не будут перебраны все возможные критерии различия. "Предельный" класс может быть описан как пересечение смыслов двух слов, как общая часть совокупности их сем или частей. Если эта общая часть необходима для обоснования постулируемого тождества, их несовпадающие части не менее необходимы для обеспечения оригинальности образа и приведения в действие механизма редукции. Метафора экстраполирует, она строится на основе реального сходства, проявляющегося в пересечении двух значений, и утверждает полное совпадение этих значений. Она присваивает объединению двух значений признак, присущий только их пересечению. 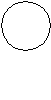     Поэтому метафора как бы раздвигает границы текста, создает ощущение его "открытости", делает его более емким. Метафорический процесс может быть описан следующим образом: И ® ( П) ® Р, где И — исходное слово или выражение, Р — результирующее слово, а переход от первого ко второму осуществляется через промежуточное понятие П, которое никогда в дискурсе не присутствует: в зависимости от принятой точки зрения оно соответствует или "предельному" классу, или пересечению совокупности сем. Разложенная таким способом на составные части метафора и может быть истолкована как соположение двух синекдох, поскольку П является синекдохой относительно И, а Р — синекдохой относительно П. Так как синекдоха может быть обобщающая или сужающая для построения метафоры, мы должны соединить ("сцепить") две дополняющие друг друга синекдохи, которые функционируют противоположным друг относительно друга образом и определяют точку пересечения между понятиями И и Р: железо ® лезвие ® плоский. Основой для метафоры могут быть общие семы И и Р (железо вместо клинок), метафора может строиться и на основе общих для И и Р частей (парус вместо судно).По этому признаку происходит деление между двумя видами метафоры: понятийной и референциальной. Первая строится исключительно на семантической основе, она является результатом применения операции сокращения с добавлением к семам, вторая имеет чисто физическую основу и может быть получена путем применения операции сокращения с добавлением к материальным частям (этот вид метафоры можно рассматривать как языковой вариант изобразительной метафоры или метафоры, применяемой в живописи, которую следовало бы описывать в рамках общей, охватывающей все виды искусства риторики). Возникающее в процессе формирования метафоры сжатие реальной семантики до точек пересечения рядов сем может в свою очередь рассматриваться как выхолащивание, преувеличенное сужение, как неоправданное насилие над текстом. В связи с этим у поэта или писателя может возникнуть желание скорректировать свою метафору чаще всего с помощью синекдохи, действующей в пределах логической разности множеств сем, или же второй метафоры. Известный пример такого рода мы находим у Б. Паскаля: "L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant" — Человек всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он тростник мыслящий. Рассмотрим логические связки в этом предложении: ограничительное всего лишь вводит метафору так, как будто речь идет о синекдохе (через пересечение рядов в точке, соответствующей понятию "слабость"), в то время как противительное но вводит обобщающую синекдоху (которая всегда истинна по определению) так, как будто ее истинность еще предстоит доказать. В этом намеренном смешении истинного и ложного заключается одна из главных черт, характерных для скорректированной метафоры. Мы находим множество более простых примеров в арго или юмористическом стиле речи. Так, например, собаку таксу можно назвать колбаса с лапками (метафора, скорректированная синекдохой). Известна также метафора хрустальная грудь (вместо "кувшин") и т.д. Можно скорректировать метафору с помощью метонимии. Этот прием очень часто встречается у Метерлинка: "Les jaunes fleches des regrets... Les cerfs blancs des mensonges..." Буквально: Желтые стрелы сожалений... Белые олени лжи... Примечательно, что метафорой здесь является название цвета, т.е. это один из редких случаев моносемической лексемы, которая поэтому воспринимается как синекдоха. Этот прием использован также в словосочетаниях: цветок успокоения ползучий и острие кипариса, это застывшее копье. Ниже изображен треугольник, в котором мы рассмотрели две стороны: это метафора и синекдоха. Третья сторона может быть только оксюмороном. Кипарис   Метафора Синекдоха Метафора Синекдоха Копье застывание Копье застываниеОксюморон Но застывшее копье представлено как эквивалент кипариса, полученный путем вполне дозволенной трансформации. Таким образом, кипарис, тихое, хорошо всем известное дерево, вдруг получает внутреннее противоречивое определение: в нем усматриваются несовместимые друг с другом части. Это дает нам более точное представление о механизме действия скорректированной метафоры: она "взрывает" реальность, вызывает шок, высвечивая противоречивые стороны объекта. Итак, метафора является результатом применения двойной логической операции. Важно при этом уточнить, может ли присутствовать в тексте исходное для этой фигуры понятие. Если придерживаться концепции классической риторики, подлинная метафора всегда предполагает отсутствие исходного понятия в тексте. Понятность текста в данном случае обеспечивается либо за счет высокого уровня избыточности в последовательности, содержащей троп, либо за счет значительного семантического пересечения, между нулевой ступенью и "образным" ("фигуральным") выражением. Действительно, только из контекста (несмотря на наличие четырех метафор) можно понять, что в следующем тексте (пример Ж. Дюбуа): Соловей в стене, замурованная искра, Клюв, плененный известью нежный щелчок (Р. Брок) — речь идет об электрическом выключателе. Вот почему поэты стали постепенно прибегать к метафоре, гораздо больше похожей на сравнение (отличающейся от него только отсутствием союза как): Содрогающиеся стены зданий, растрескавшиеся лужи оконных стекол... (М. Деги); Испания — большой кит, выброшенный на берега Европы (Э. Бюрк). Интересно, что при очевидной метафористичности последнего примера он напоминает синекдоху (кит вместо его формы), что подчеркивает тесную связь между этими двумя тропами. Пример Р. Брока показывает, что метафоры обладают разной степенью доступности их понимания в речевой коммуникации, что связано с объемом зоны пересечения семантических единиц, входящих в понятия, представленные в метафоре. Рассмотрим пример: Смирились вы, моей весны высокопарные мечтанья (А.С. Пушкин). Очевидно, что если слово используется в значении, гораздо больше свойственном другому слову (а за каждым словом стоит денотат, т.е. тот конкретный предмет, который словом задается), то, конечно, метафора построена на внутреннем психологическом сравнении между предметами или явлениями. Эта связь должна быть ощутима именно потому, что понятие, с которым осуществляется сравнение, не называется. В рассматриваемом примере эта связь понятна: весна — юность. Почему? Попробуем записать значение каждого из двух слов через последовательность сем. Весна — это постначальная пора. Разумно спросить: "Постначальная пора — чего?" (A of В)."Постначальная пора" — это функция, аргументом которой является один календарный год в природе: 1) год; 2) единичность; 3) природа. Понятие природа может быть разделено на два: человек + нечеловеческая природа. Тогда весна — это постначальная пора единичного года в человеческой жизни, а также во внечеловеческой жизни природы, Проделаем ту же операцию с понятием юность. Юность — это постначальная пора человеческой жизни, состоящей из многих лет, т.е. постначальная пора многих лет человека. Сравнив две смысловые записи: Весна = постначальная пора (год + единичность + человек + нечеловеческая природа); Юность = постначальная пора (год + множественность + человек). Мы обнаруживаем, что эти два понятия имеют одинаковую смысловую функцию ("постначальная пора") и значительное пересечение в аргументах: "год" и "человек". В понятии весна присутствует значение единичности, а в понятии юности — множественности (т.е. по категории единичности / множественности рассматриваемые два понятия противопоставлены). Кроме того, толкование понятия весна имеет на один смысловой элемент больше — нечеловеческая природа.Такая метафора является удачной, поскольку в ней соблюдена мера смыслового пересечения, которая не может быть задана формально, но интуитивно ощущается. Если метафора построена на понятиях, смысловые толкования которых имеют мало совпадений (например, один общий элемент в аргументе), то эта метафора может быть непонятна речевым коммуникантам. Если проанализировать некоторые тексты, скажем русскоязычной поэзии начала XX в., то ощущается, во-первых, перенасыщение метафорами и, во-вторых, сложность их дешифровки. Нераспознаваемость смысла компенсируется в стихе благозвучием и формой, и сама форма, таким образом, становится означаемым стиха (см. выше). Итак, если в толковании двух слов крайне мало точек пересечения, метафора понятна не будет, а следовательно, она неудачна, поскольку любой речевой поступок реализуется с целью передачи информации. Если же человек информацию передает, а другой ее не принимает, то речевая коммуникация оказывается нецелесообразной. Есть писатели и поэты, декларирующие, что они пишут для себя и еще для двух-трех человек, способных оценить их текст. Это распространенная точка зрения. Когда автор выносит свое творчество на суд других людей, он должен хорошо понимать, чьего суда он ждет; может быть, не имеет смысла издавать свои книги большими тиражами, а стоит распространять их среди тех немногих людей, которые истолкуют их адекватно, поскольку их ментальность близка ментальности автора, что является основой понимания. Есть тексты, которые действительно могут понять очень мало людей, потому что эти тексты созданы на основе ассоциаций, вызванных каким-то совместным действием. К примеру, три человека сидели у костра, у речки, о чем-то говорили — это факт их индивидуальной жизни — и то, о чем они говорили, известно только им троим. Потом создается текст, который в смысловой сфере опирается на этот конкретный инцидент. И метафора является переносом этого конкретного смысла, так как основана на воспоминании о том событии. Кто его помнит? Те трое, которые тогда сидели у речки, больше никто. И раскодировать такой текст могут только эти три человека: он написан для них. В этом случае следует напечатать три экземпляра текста и дать этим людям. Когда же автор выносит собственный текст на суд большого числа людей, печатает его значительным тиражом, он обязан исходить из того, что уровень понимания, хотя бы относительный, должен быть. Следует учитывать, что, так как много метафор базируется на знании других художественных произведений, особенно античных и эпохи Возрождения, тексты с такими метафорами ориентированы на эрудированных читателей и слушателей. Что происходит с восприятием текста, когда уровень пересечения смыслов очень велик, скажем, у двух понятий общая функция и все аргументы, за вычетом одного, тоже одинаковы? П1 = f1(a1, + a2, + a 3, + a 4); П2 = f1(a1, + a2, + a 3, + a5). Очевидно, что такая метафора будет понятна, но будет ли она удачной? Скорее всего, метафорического эффекта не произойдет, так как П1и П2 окажутся близкими синонимами. Сколько же единиц пересечения должно быть, чтобы метафора, с одной стороны, была понятной, а с другой — не была банальной, не превратилась в синоним? Ответ не может быть формальным. Здесь автору должны помочь вкус и чутье. Каждый раз вашему читателю или слушателю должно быть трудно понять метафору, но при интеллектуальном усилии — возможно. Особым видом метафоры является олицетворение (прозопопея от греч. prósōpon — лицо и poiéō — делаю), которое основано на перенесении человеческих черт (шире — черт живого существа) на неодушевленные предметы и явления. Можно наметить градации олицетворения в зависимости от функции в художественной речи и литературном творчестве. 1. Олицетворение как стилистическая фигура, связанная с "инстинктом" персонификации в живых языках и с риторической традицией, присущей любой выразительной речи: сердце говорит, река играет. 2.Олицетворение в народной поэзии и индивидуальной лирике (например, у Г. Гейне, у С. Есенина) как метафора, близкая по своей роли к психологическому параллелизму: жизнь окружающего мира, преимущественно природы, привлеченная к соучастию в душевной жизни героя, наделяется признаками человекоподобия. Лежащие в основе таких олицетворений уподобления природного человеческому восходит к мифологическому и сказочному мышлению с той существенной разницей, что в мифологии через родство с человеческим миром раскрывается "лицо" стихии (например, отношения между Ураном-Небом и Геей-Землей уясняются через уподобление бракосочетанию), а в фольклорном и поэтическом творчестве позднейших эпох, напротив, через олицетворенные проявления стихийно-естественной жизни раскрываются "лицо" и душевные движения человека. 3. Олицетворение как символ, непосредственно связанный с центральной художественной идеей и вырастающий из системы частных олицетворений. Так, поэтическая проза повести А.П. Чехова "Степь" пронизана олицетворениями-метафорами: красавец тополь тяготится своим одиночеством, полумертвая трава поет заунывную песню и т.п. Из их совокупности возникает верховное олицетворение: "лицо" степи, сознающей напрасную гибель своих богатств, богатырства и вдохновения, — многозначный символ, связанный с мыслями художника о родине, о смысле жизни, беге времени. Олицетворение такого рода нередко близко к мифологическому олицетворению по своей общезначимости, "объективности", относительной несвязности с психологическим состоянием повествующего, но тем не менее не переходит черту условности, всегда отделяющую искусство от мифологии. Олицетворение — самый выразительный из всех существующих тропов. Он выразителен настолько, что даже опасно его иногда употреблять. Почему олицетворение такой сильный прием? Существует природа и существует человек, который, с одной стороны, есть часть природы, а с другой — функционирует изолированно, как наблюдатель. Сознание человека устроено таким образом, что все, касающееся лично его, всегда выше, чем все, что касается чего-нибудь другого (например, камней или деревьев). Это стойкая общечеловеческая универсалия является генеральной в человеческом миропонимании: самое главное — то, что связано с людьми, значительно — то, что связано с животными, и только потом по значимости идет все остальное. Поэтому самые главные для человека эпитеты — это такие, которые характеризуют именно человека, а самые главные действия — это те, которые осуществляет человек. Если перенести свойства и типовые поступки человека на неодушевленные объекты, то значимость последних предельно повышается. Это максимальное выражение эффективности передачи смысла. Таким образом, олицетворение есть "идеальный" прием выразительности. Я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное злодейство. И руку будет мне лизать, и в очи смотреть, в них знак моей читая воли (А.С. Пушкин). Может ли мысль быть выражена сильнее? |
