Шишков. шишков. Вячеслав Яковлевич родился 21 сентября (04. 10) 1873 года в г. Бежецке Тверской губернии в семье купца. С 1882 по 1888 гг учился в Бежецком городском училище. С 1888 по 1893 гг
 Скачать 62.62 Kb. Скачать 62.62 Kb.
|
|
Вячеслав Яковлевич родился 21 сентября (04.10) 1873 года в г. Бежецке Тверской губернии в семье купца. С 1882 по 1888 гг. учился в Бежецком городском училище. С 1888 по 1893 гг. проходил обучение в Вышневолоцком училище кондукторов путей сообщения. В 1894 г. выехал в Сибирь на службу по Округу водных путей сообщения. В 1900 г., успешно выдержав учебные испытания, получил право на самостоятельное производство инженерных работ и стал возглавлять экспедиции по техническому исследованию водных путей на Оби, Чарыше, Чулыме, Иртыше, Енисее, Лене. В 1909–1910 гг. провел первое научное исследование Бии от Телецкого озера до Бийска. В 1913–1914 гг. возглавлял геологическую экспедицию, работавшую по изысканию оптимального варианта Чуйского тракта. В 1908 г. на страницах журнала «Сибирская жизнь» появилась символическая сказка «Кедр». В 1910–1912 гг. в «Сибирской жизни» вышли первые очерки писателя «На Лене», «Злосчастье», «В кают-компании», «Любителям красот природы» и рассказы «Однажды вечером», «Человек из города», «Собачья жизнь», «Бичевочка», «На севере». С 1912 г. произведения В. Я. Шишкова стали печататься в столичных журналах. В 1915 г. В. Я. Шишков переехал из Томска в Петербург и поступил работать в Министерство путей сообщения. С 1917 г. целиком посвятил себя литературному творчеству; одна за другой появляются повести «Пейпус-озеро», «Ватага», «Странники», путевые очерки «Ржаная Русь», «Шутейные рассказы» и др. В течение 14 лет (1918–1932 гг.) работал над романом «Угрюм-река» – семейной сагой, действие которой разворачивается в конце XIX – начале XX в. в Сибири вокруг семьи Громовых. Во время Великой Отечественной войны, находясь в осажденном Ленинграде, а с апреля 1942 г. – в Москве публиковал очерки и рассказы на патриотические темы, продолжал работу над историческим романом «Емельян Пугачев», первый том которого вышел в 1938 г. Этот многолетний труд Шишкову завершить не удалось. Вторая и третья книги романа, удостоенного Сталинской премии первой степени в 1946 г., вышли уже после смерти писателя. В. Я. Шишков был также награжден орденом «Знак Почета» (1939), орденом Ленина (1943), медалью «За оборону Ленинграда» (1944). Очарованность Сибирью навсегда вошла в жизнь и творчество В. Я. Шишкова. Воспоминания и впечатления писателя о Сибири и Алтае транслировались во множество его произведений, среди которых повести «Алые сугробы», «Страшным кам», «Ватага», роман-эпопея «Угрюм-река», публицистика военных лет. В 1973 г. имя В. Я. Шишкова к 100-летию со дня его рождения было присвоено Алтайской краевой универсальной научной библиотеке. В честь писателя, деятельность которого с 1909 по 1914 гг. была связана с исследованием Алтая, на здании библиотеки была установлена мемориальная доска. С 2007 г. в Барнауле по инициативе Алтайской краевой библиотеки, Алтайской краевой краеведческой ассоциации и ученых края проводятся публичные Шишковские чтения. За окном стоит теплый июнь, а мне холодно. Я буквально только что вернулась из Сибири. У меня дома с незапамятных времен хранится книга, купленная некогда мамой. Тогда, еще до развала Союза, им, "элитам" (мама, ныне пенсионер, была госслужащей) частенько задешево доставались самые-самые книжные "сливки". Мама тогда была одержима идеей создать свою библиотеку, вот только классиков, помимо Толстого, Достоевского и прочих "школьных" авторов, не знала. Так что можно сказать, что Шишков попал ей в руки случайно. Настолько случайно, что сейчас она даже не совсем уверена, что эту книгу принесла в дом именно она:) А мне он попался не менее случайно. Захотелось почитать чего-то "этакого", копалась среди еще нечитанных книг, и наткнулась на симпатичную обложку: два мужика в ушанках и с ружьями, а фоном - роскошный лес... По наитию я думала, что держу в руках что-то вроде рассказов Кервуда или Сетон-Томпсона, только о Сибири. Но меня ждало другое путешествие, и приятным его не назовешь. В сборнике три повести и несколько рассказов. Повести написаны сильнее, рассказы впечатляют не так. Хотя от последнего, от "Настюхи", вдруг повеяло милой моему сердцу чеховщиной... Неожиданно - после такой жути-то... Хохотала в голос. Хотя, неплохи и "Алые сугробы". Кстати, по этому рассказу можно снять отличный фильм о борьбе человека с враждебной ему природой. Уверена, если за дело возьмется талантливый режиссер, фильм получится не хуже, чем гениальный "Неотправленное письмо" М. Калатозова. Финал в рассказе шокирующий. Ожидала всего, только не такого. Хотелось бы сказать пару слов о повестях. Первая, "Тайга", является чем-то вроде предыстории к несомненно более мрачной и жуткой "Ватаге". Рассказ в повести ведется о людях, живущих в сибирской деревушке, затерянной в глухих лесах. И там, уже с первых страниц, меня с головой окунают, к примеру, вот в такое: "Пуще же всех нравилась ему солдатка Дарья, с которой он открыто жил. А гладкая солдатка Дарья жила в то же время с уголовным поселенцем Феденькой, а жена вора Феденьки, местная крестьянка, жила с кузнецом Афоней, а жена Афони жила с тремя назимовским парнями и с "женатиком" Лапшой, жена же Лапши, ловкая баба Секлетинья, путалась с вдовым попом. Поп, не довольствуясь бабой Секлетиньей, своей стряпкой, увлекался семипудовой купчихой Бородулиной, уехавшей в город лечить зоб." Словом, забудьте о духовности русского крестьянина. Это - толстовщина, к реальной жизни отношения не имеющая. Я склонна верить, что в глухих деревнях было именно так, как у Шишкова. А было там по принципу "человек человеку волк": "- Я смерти, милые мои, не боюсь... Я людей боюсь, зверья. Вот я не знаю, как они... То ли веревкой задавят, то ли топором... Али из ружья... Из ружья оно бы лучше... А то вот я боюсь - топором... Лица-то его, зверя, боюсь, глаз-то... Как надбежит-то да замахнется-то... Вот этого-то, звериного-то, пуще всего боюсь." Ну, да, вот как-то так. Стал жить лучше, чем "общество"? На тебе красного петушка. Путаешься с чужой девкой? Твою корову ждет острый нож варнака. И так далее, и так далее... А уж если довелось бродяг поймать, то начинается полный Хичкок. Я серьезно. Есть в повести и такая нотка: трое бродяг сидят в остроге и ждут, что их порешат. Ни за что. Причем, порешат с особым садизмом. Ну чем не триллер? Ужасы беспросветного реализма, даже, скорее, натурализма, удивительным образом переплетаются у Шишкова с элементами фольклора, и порой создается впечатление, что ты читаешь не повесть о жизни в дореволюционной тайге, а этакую сказку-быличку про ходячих мертвецов, леших и упырей. Кстати, есть в книге небезынтересный момент. Так, один из центральных персонажей, набожный старик, окончательно разочаровавшись в своих соседях (произошло это после убийства бродяг), решает уйти в лес, построить хижину и молиться за погибших. И вот, ночью начинается гроза. А старику кажется, что это не лес шумит, а мертвецы между собой разговаривают... В общем (возвращаясь к русской "духовности"), не Серафим Саровский он ни разу. "Ватага" еще страшнее. Если в "Тайге" автор рассказывает нам о дореволюционных (точнее, совсем уже предреволюционных) событиях, то в "Ватаге" читатель окунается в страшные, кошмарные события красного террора. И как-то понятно становится, почему книга эта не переиздавалась аж до 1990 года - не "советские" здесь большевички, ох не "советские"... "Жрал, перхал, давился, вытягивал шею, как ворона. "Эх, недосуг". Он поставил блюдо с пирогом на пол, расстегнулся, присел и, гогоча, напакостил, как животное, в самую середку пирога". И вновь ужасающий натурализм (а цитируемое - далеко не самое "натуралистичное" у этого автора) переплетается с фольклорно-сказочными элементами, и чувствуется экзистенциальная тоска писателя по Руси (мне отчего-то показалось, что тоскует он по языческим, дохристианским временам). Ибо то, что в этой книге - это не Русь, это гротескная маска, продержавшаяся на Ее лике, увы, слишком долго. 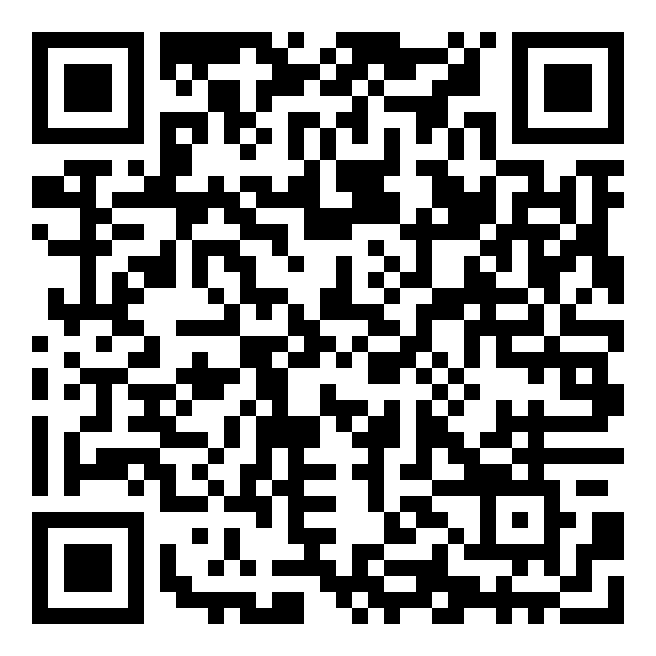 II. Преддверия Орды Муюта - большое селение, наполовину русское, наполовину теленгистское. Есть церковь. Почти все инородцы крещеные. Они очень религиозны. В аилах, разбросанных в ущельях гор и долинах горных речек, еще много некрещеных. Большинство их исповедуют новую веру, бурханизм, введенную лет восемь тому назад знаменитым Чотом из Карлыка. А староверов, шаманистов, осталось не так много. Я еще не успел как следует ознакомиться с особенностями бурханизма, не чистого, конечно, бурханизма, имеющего за собою тысячелетнюю давность и философскую догму, а бурханизма особого, чисто алтайского, приноровленного к пониманию новообращенных инородцев. Да сам апостол Чот, действующий под внушением лам, кроме силы воли и широкого размаха темной, непросвещенной мысли, ничем иным не отличается. Он, кажется, безграмотен. А потому и новая вера получилась какая-то странная, особая, алтайская, своя. В ней, поскольку мне удалось выяснить из расспросов, старый шаманствующий культ переплелся и перепутался как попало с чистым ламаизмом. Но так ли, иначе ли, а в основу новой веры все-таки положен принцип единобожия. Под влиянием ламаизма изменились внешние формы отношений. Например, прежде, при встречах, инородцы приветствовали друг друга: - Эзэнь! Эзэнь! Теперь приветствуют: - Якши! Якши (джякши)! В огонь плевать нельзя. Огонь - нечто священное. Кровавые жертвы (камлание, убой лошадей и т.д.) отменены. Камы (шаманы) разжалованы, бубны и костюмы камов сожжены. Пьянство и курение табаку не одобряется (хотя процветает по-прежнему). Жертва богу - вместо крови животных - молоко, которым брызгают в огонь. Возле чумов (юрт) белые березки натыканы, на них белые лоскутки ситцу. Вместо меховых, сплюснутых с боков, огромных шапок носят легкие тулейки с большими разноцветными кистями. Это все внешняя сторона. С внутренним содержанием новой веры я не знаком совершенно. На дворе ямщика, пока лошадей запрягают, сидя на завалинке, веду разговор с пожилым теленгитом. - Ты Кыркына знаешь, Григорья? - Кто такой Кыркын? - Мой родня, на Аносе, картины делает... - А-а... Гуркина? Знаю. - А Потанина-старика знаешь? - Григория Николаевича? - Да, я ему сказки сказывал. Он хороший старик, прямо божеский старик, - и теленгит, почмокав губами, спрашивает: - А где он теперь? - В кыргызы уехал, - отвечаю, - кыргызские песни списывает. - - Еще все-то трудится?! - воскликнул изумленно теленгит и привскочил с завалинки. - Ох ты, господи. Ха! Имя Григория Николаевича здесь чтится, по всему тракту известен он, все его знают, все его любят. "Это наш друг, это лучший человек, пожалуйста, давай ему поклон. Пожалуйста, говори спасибо". Везде, везде, где бы я ни завел речь о Потанине. В некоторых местах Алтая популярно и имя профессора Сапожникова. Особенно в Катанде, на Урмонском тракте. Один чиновник, бывший в Катанде, мне рассказывал: - Приезжаю в Катанду. Крестьяне меня окружили, спрашивают: "А что, Василь Василич будет к нам нынче?" - "Какой Василий Василич?" Даже удивились, руками замахали, закричали все враз: "Да как же ты Василь Василича не знаешь?! Да ведь он на Белуху лазил, - и, улыбаясь, продолжают рассказывать: - В прошлом году к нам приехал из Германии немецкий поп, на Белуху подыматься хотел. Мы ему не присоветовали, убьешься, мол, тебе не залезть, а он: а как же Сапожников лазил? А мы: дык то Василь Василич, где ж тебе насупротив Василь Василича, да нечего тебе там и высматривать, а коли любопытно, в книжке прочитай, у Василь Василича все прописано. А тебе нечего там делать. Ты, немец, можешь там калоши потерять". Местная интеллигенция в притрактовых селениях знает и Георгия Гребенщикова и Георгия Вяткина. IV. Страшный кам От Муюты до Шебалиной 19 верст. Мой ямщик, сам хозяин, лет 40, рожден от смешанного брака - русской и теленгита. Задняя тройка все отстает. Хозяин, придерживая первую тройку, кричит работнику: - У тебя пристяжка не везет, ты ее дери! Ишь, коренник упарился... Тот ухмыляется. Его скуластое лицо очень добродушное. Он крещеный калмык. Имя ему - Тит. Опять трогаемся. Тит вновь отстает. Хозяин кричит: - Дери! - Деру... Не лезет... - откликается Тит. Мы с ямщиком улыбаемся. Да как и не улыбаться: вдруг Тит, - а лицо медно-красное, нос плющаткой, глаза раскосые, щелочками и по-русски говорит плохо. Какой же это Тит? Ямщик мой говорит. Толкует о том о сем. Колокольчики звенят, шаркунцы брякают. Останавливаем лошадей, подвязываем колокольчики, чтоб не мешали. - Камы теперь в щели убрались, по речкам живут, боятся, - говорит ямщик. - Вот недалеко отсюда живут два кама. Одного Мамыром звать, его в Томск возили для показу, а вот другой... О! Тот страшный кам: все узнать может или человека съесть... - То есть как съесть? Разве он людоед? - Пошто? Он так изведет, просто человек чахнуть начнет и пропадет, подохнет. - И часто он съедает? - Пошто? Никогда не съедает. Он старик справедливый. Вот только раз с ним и было... Тогда, действительно... - Ну-ка, расскажи, брат. - Лет с 30 тому назад это было. Я мальчонкой тогда был. И кам этот молодой был еще. Вот, значит, окрестили его. - Зачем же он крестился? - А видишь ли, его батька-то с кем-то подрался пьяный, да в драке-то голову прошиб другому, вот его и засудили в тюрьму. А орда тюрьмы знаешь как боится? Ужасти. Ему и говорят, ежели окрестишься с семьей, тогда простим. Ну, он и решил, значит. Вот, значит, так кам и окрестился. Потом слух пошел, что он камлать продолжает. А в то время священник строгий был в Муюте. Надо, говорит, его проучить. Заманили его, значит, кама, в деревню, силом притащили. А как вытащили на обрыв, на горку, он им и говорит: "Мне только вас жалко, а то обернулся бы медведем и улетел бы". Ну, ладно. Привели его в Муюту, а уж вечер. Он и говорит попу: "Батюшка, ты меня бить не вели. Это же верно. Ну, только что я камлаю, не могу бросить, а то меня шайтан давит, мне тяжело. Я грешный, ну, я за это сам и отвечу. А бить меня не приказывай". Однако его стали бить. - Кто? Русские? - Русские. А инородцы жалели. Русский злой, зверь. Инородец жалостливый. Повели его по улице. Велели в бубен бить. Потом опять лупить начали... "За что меня бьете? Кому я худо какое сделал?" Заплакал. Мы тоже, которые инородцы, заплакали. Помолчал ямщик Лошади шли в гору шагом. - Потом как загрозился. Говорит мужикам: "Вот и году не пройдет, У одного из вас отелится корова, а теленок,. пестренький, пропадет. Тогда вспомните меня". Ушел кам. И верно. Как сказал, так все и случилось. Родился теленок, пропал. А кам две семьи съел, которые били. Так один за другим и стали валиться. Обе семьи вымерли, с детьми и стариками. Начисто. А третий мужик, из третьей семьи, был догадливый, хитрый. Купил четверть водки и пошел к каму с повинной. Просил его. На земской-то, может, видел мужика? Ну так это он самый. - Что ж, он и теперь камлает? - Камлает. Ему нельзя без этого. Его тогда шайтаны задушат. Их много. Они работы себе требуют. Этот кам самый настоящий, страшный. Его весь Алтай боится. А зла он никому не делает. Все узнает. Болезнь прогоняет. Ямщик вытащил из-за голенища длинную монгольскую трубку, закурил. - И вот с тех пор, уж сколько лет прошло, как кому умереть в Муюте, ночью по улице одной, по переулку бубен стучит. Так и идет, сам собой трякает, бубенцы звенят, а бубен: ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Грохочет, а никого нет. Просто страх. Потом тише, тише, так в горы и уйдет. Опять крикнул Титу: - Дери пристяжку-то! - Деру, не лезет. - Ну, выпряги ее да привяжи сзади. VII. Семинский перевал - Кеньга От Топучей начинается пологий подъем на Семинский хребет. Подъем около девяти верст. Он идет по лесистому месту и выводит на небольшую безлесую площадку. С нее открывается великолепный вид на синеющие впереди малые хребты. Перед этим все лесом едешь, ничего не видать, а лишь вырвешься на простор, на вершину перевала, все вдруг пеленой снеговых хребтов всколыхнется и остановится. Девятиверстный спуск приводит к жилищу ямщика, к станции Песчаной. Далее следует еще подъем, перевал через так называемое Каменное седло и спуск к озеру, лежащему на широкой луговой равнине, окруженной безлесыми хребтами. Озеро небольшое, версты четыре в окружности, тихое, голубое. Лодчонка у берега стоит, белая палатка чья-то виднеется: хозяин промышляет рыбу. У калмыков про озеро множество легенд. На дне этого озера большой волшебник живет - Морская корова. Эта корова зла никому не делает, а пугать пугает. Как осень установится, льдом скует воду, корова начинает реветь страшным ревом. Трудно тогда на озере жить. Ночи темные-темные, ветер по степи рыскает, из ущелья в ущелье носится и воет адским своим воем Морская корова. - Мы примету сделали, - говорит калмык, - ежели озеро шибко стонет, год для скота будет легкий, корма хорошие будут. Ежели озеро молчит - трудный. Русские крестьяне говорят: - Какая там корова, одни враки. А оттого оно и стонет, что воздух снизу выходит, из воды подымается, лед разрывает да в щель-то и идет снизу, вот и воет. Это верно, что с непривычки, мурашки по спине полезут. Чудо про озеро рассказывают калмыки и русские. На озере нет дна. Как-то мерили, веревок не хватило. А в глубине будто бы вода винтом ходит. Пригнал калмык диких своих коней к озеру. Поймал двух, связал их вместе, чтоб те не разбежались, чтоб удобнее было вновь поймать, связал и опять отпустил на волю. А те перепугались да в озеро. А озеро глубокое, захватило их винтом, на дно утянуло. Погибли лошади. За хребтом, верстах в пятидесяти отсюда, есть другое озеро - Елбань. И вот в этом озере месяц спустя и нашли трупы двух погибших связанных вместе лошадей. Неужели оба эти озера сообщаются? Спустившись в приозерную степь, дорога становится ровной, плотной, словно асфальтной. Утомленные кони вдруг оживают, закусывают удила и несут нас вперед к небольшому селенью Кеньге, столице калмыцкого царства. VIII. Калмыки При въезде в Кеньгу стоит большой двухэтажный дом с амбарами на широком дворе - усадьба знатного калмыка Аргамая Кульджича Кульджина. Она особняком стоит. За ней луговина, вся уставленная коническими, крытыми корьем чумами, а дальше - церковь, инородное управление, каталажка, школа, земская и два-три дома. За чашкой калмыцкого чая, сваренного с молоком, солью и талканом, веду беседу с Аргамаем Кульджичем. Он человек начитанный, богатый, предприимчивый. Не раз бывал в Питере. Он владеет огромными табунами лошадей. Он желал бы поставлять для сибирских частей русской армии особой породы лошадь, выносливую в горных переездах, приспособленную к суровым зимам. Для этого ему нужны хорошие производители из главного коннозаводства и 20000 десятин земли. Производителей ему дали, в земле же он получил полный отказ. - Поеду в Питер хлопотать, - говорит он, посматривая на меня умными, с огоньком глазами - Ежели откажут на Алтае дать, по Иртышу просить буду. Ежели и там не дадут, весь скот за границу угоню, в Монголии жить буду, либо все брошу, закончу, стану без дела жить. Но разве такая натура, как Аргамай, может бездельничать. Он и скотоводством занимается, и землю пашет, и торговлю ведет. Рахманинские горячие ключи хотел ведь под свою руку взять, курорт там устроить. Конечно, следовало бы поощрить такого предприимчивого калмыка. Тем более, что дело улучшения породы алтайских лошадей - дело значительной государственной важности. - Ну, как живут наши калмыки? - Житье наше плохое. Кабинет обвел нас межой, лишил простора. Жить стало трудно. Нашему народу надо много земли - у нас скота много. Скот от бескормицы падает. Падет скот - вымрут калмыки. Надо нас жалеть. Мы со своей землей пришли в верноподданство, мы не с голыми руками пришли. Нас не воевали, сами пришли. Нас монголы да Китай обижали. Мы стали просить у русских защиты. Нам казачью линию поставили, охранять начали, а на землю выдали бумагу, грамоту. А грамоту мы затеряли. Помолчали. На полу сидели калмыки. Один старик ввязался в разговор: - Шибко худой жизнь. Конина колол, корова колол, себе-та надота. Чего да нету? Чай да нету, мука да нету. А надо. Баран колол. Все пропал чиста. И он часто замигал своими узкими глазами и отвернулся. Аргамай сказал: - Житье наше неважное. Первая причина - калмык не умеет сено заготовлять, скотина на подножном корму ходит. Вот в прошлом году глубокий снег выпал в нашей бесснежной равнине, скота погибло больше тысячи. Половину скота убавило. А у других весь скот пал. Вторая причина - леса не дают, коры драть нельзя, а скоту необходим теплый хлев: в долине большие ветры живут, лес обязательно надо калмыку, а запретили брать. Третья, самая главная, - скотогоны десятки тысяч скота гоняют по нашей земле из Монголии. Мало ли сколько кормов съедят, сколько травы стопчут. Да еще иной раз скотина хворая идет, вредную слюну оставляет на траве. Наша заражается. От этого - повальный падеж. Нонче у нас, в прошлом году в Топучей, да каждый год. Надо другой путь избрать для прогона. Хотя бы на Катунь. Там и скота меньше и земли больше. Это можно доказать цифрами. Аргамай вдруг улыбнулся. - Что? - Да тут смешное вышло. Когда Чот вводил веру, он запретил на пять лет лес рубить. Это глупо. А тут вскоре и от лесничего запрещение на лес вышло. Получилось смешное совпадение, калмыки ведь знали: "Начальство то разгоняет нас, то по нашей вере, то по новой поступает, ничего не разберешь". Я говорю Аргамаю: - Ну, а что, если б правительство всем кеньгинским калмыкам дало бы общую площадь земли и сказало бы: "Вот вам земля, как хотите, так и устраивайтесь". То же самое и катунским калмыкам. - Это было бы очень хорошо. IX. Беседа с зайсаном В дальнейшем пути я встретил калмыкского зайсана. Он был выпивши, и, так как земская была занята военными, топографами, он расположился со своим адъютантом под навесом амбара на мягких кошмах и подушках. Он был жирный, с узкими заплывшимися глазками, с косичкой на бритой голове. Когда я подошел к нему и поздоровался, он тяжело поднялся с своего ложа, часто закивал головой, сделал по-военному под козырек (хотя был без шапки) и крикнул адъютанту, чтоб тот скорее обул его. И никак я не мог убедить его, что можно великолепно разговаривать и разувшись. - Нельзя, нельзя, нельзя, - скороговоркой проговорил зайсан и дал адъютанту легкий подзатыльник. И вот мы, сидя друг против друга на кошме, стали беседовать. Человек пять русских подошло. Меня разбирал смех, когда девятипудовый зайсан при каждой фразе прикладывал по-военному руку к бритой без шапки голове и всякий раз извинялся, что он выпивши: - Извините, извините, извините. - Вы мне, пожалуйста, не козыряйте, я человек простой. - Нельзя, нельзя, нельзя... Таштан! - крикнул он адъютанту и сделал жест рукой сверху вниз. Адъютант вскакивает, делает по направлению ко мне шаг и плутовато, с улыбкой косясь на своего господина, смешно раскорячивает ноги и кланяется мне в землю. - Проси, проси, проси! - приказывает зайсан, опять делая под козырек и кивая головой. Адъютант, растерянно улыбаясь, сюсюкает: - Проси, проси, проси... Я заливаюсь хохотом, угощаю зайсана и адъютанта папироской, все улыбаются: и зайсан, и адъютант, и ямщики, и мы, наконец, заключаем условие разговаривать попросту. Зайсан положил мне руку на плечо и, указывая крючковатым пальцем на заречную гору, заговорил: - Вот эту гору видишь? Что в ней есть? Пастбище есть? Один камень. Как жить, чем скот кормить? Тыща десятин в ней. Нам дали. Чего на ней есть? Крестьяне поддакивают: - Тут какое угодье. Самый камень. Вот теперь вид у горы зеленый: это дождички шли нынче, трава и позеленела. Да вот уже жары пойдут - вся счахнет. Иной раз живет весна жаркая, так все лето и стоит этот подол красным, головой все побуреет. - Так где ж скот-то пасут? - Да вот по логам и бьется. Еще есть у них землишка. Та под пашню. Тоже немного. - Раньше лучше было? Зайсан отвечает: - Известно, лучше. Раньше - куда хочешь гони скотину, запрету не было, вся земля была наша. А теперь одним обществам хорошие куски попали, другим худые. Раньше равнение было. Кто на плохом корму - в хороший гнал, к соседям. Те не препятствовали Лучше было бы всему нашему народу сообща отмежевать сколько есть нашей земли. И вдруг, схватив мою руку и припав к ней потным своим широким лбом, зайсан заговорил: - Пиши, пожалуйста, в газету, пожалуйста, пиши Таштан!.. Я изумился. Наконец-то наконец, и темный калмык уверовал в силу печатного слова. Выслушали мы мнение по земельному вопросу людей богатых и власть имущих, так сказать, местных феодалов, воля которых для своего народа - закон, его же не прейдоши, и капитал которых так же беспощадно и неотразимо в бараний рог гнет бедноту, как и толстая мошна любого нашего истинно русского Колупаева. Надо выслушать и мнение другой стороны. XI. Еще о Чоте Челпанове Встретил я господина, который видел Чота и говорил с ним. Вот его рассказ: - Нас было трое. Мы в тех местах, где Чот, работы от Кабинета производили. Мы знали, что Чота трудно увидеть, он уклоняется от всяческих встреч. Остановились вблизи его юрты, посылаем человека: "Зови хоть обманом, хоть как, только достань его". Пришел Чот. Стали его угощать, стали чрез переводчика расспрашивать. Он высокий, сильный, малоподвижный, самый обыкновенный, даже в глазах нет ничего особенного. - Как ты вводил веру свою? - Дочь моя бродила по лесам. Дочь моя встретила на белом коне белого всадника. Белый всадник сказал ей: "Объяви народу, пусть бросят камлать, пусть свою прежнюю веру найдут, пусть вереек жгут, молоко приносит в жертву, прогонят камов". Дочь испугалась, мне передала. Я испугался. Я стал искать белого всадника, но не мог найти. А народ услыхал про это, начал сбираться в нашей юрте. И вот я встретил белого на белом коне всадника. "Я царь мира, Ойрот, которого вы ждете". И повторил то, что сказал дочери. Я вернулся к своим и стал насмехаться над камами, стал говорить, что они мошенники, обманщики, что они служат злому духу, а забыли Духа доброго, того, кому поклонялись раньше. Тогда все испугались, ожидая, что вот явится сам Эрлик и всех пожрет. Но ничего не случилось. Тогда я начал устраивать новую веру, ту самую, которая была у нас, но которую мы забыли. - Какая же основа вашей веры? Чот оживляется, передает переводчику: - Солнце, луна, земля, вода, огонь - одно. Одно божество. Все - одно. Один Бог, один Бурхан. Переводчик говорит: - Солнце, луна, земля, вода и огонь - все равно. Что луна, что вода - все равно. Чот, уловив грубую неточность перевода, сверкая глазами и крутя рукой, кричит: - Одно, одно! Одно! А не равно!!! Мы кивнули головой, и он успокоился. - Ты говоришь: новая твоя вера - это прежняя, забытая, вера ваших предков. Как народ мог забыть веру свою, как мог пренебречь добрым духом, а молиться лишь духу злому? - Народ раньше молился только доброму духу. Но добрый дух милостивый, он не взыщет, если иной раз ему и не помолиться. А злой дух всегда возле человека, он рад проглотить душу человеческую, рад зацапать ее, поразить болезнью. Вот человек и стал упрашивать злого духа: "Пожалуйста, не тронь; чего хочешь возьми, только отступись. Мы тебе кровавую жертву принесем, мы тебя славить будем". Так это поклонение черту и усилилось, а доброго духа народ забыл. Этому помогли камы. - Расскажите что-нибудь о том, как вас разгромили русские? Чот долго молчит, потом отвечает: - Я ничего не помню. Мы мирно молились. Потом пришли русские. Меня ударили. Я больше ничего не помню. Моя душа над землей трепыхалась в то время. Поэтому я все забыл. - А что означает: мы встречали в долинах дощатые помосты, по углам шесты с шарами и белыми и желтыми лентами? - Там мы молимся. Там наши ярлыкчи, наши вестники поют стихи, которые они слагают. Рассказчик сообщил мне несколько таких стихов, переведенных одним из священников на русский язык и уже где-то напечатанных. Вот они: Беленький цветочек Северного места От любви к Алтаю Раскрывается Пятилетний ребенок, Прославляя Бурхана, Молится ему. Сорок две пуговицы Можешь ли застегнуть враз? Ученье Бурхана Можешь ли скоро понять? Рубящий дом О четырех углах, Топор остер Сорок племен угнетающий Сердитый русский народ. Мы еще о многом хотели расспросить его, но Чот несколько раз, перевирая наши вопросы, спрашивал: - Где мне найти правду? Научите. Меня разорили то ли русские, то ли свои. Пожгли все, скот угнали, лошадей угнали, все разграбили. Где правда? Кто может заступиться за меня? У кого милости искать? Возле нас сидели несколько калмыков и благоговейно смотрели на Чота. Мы спросили. И некстати спросили: - Скажи, Чот, почему прежде калмыки оказывали тебе всякие почести: с седла снимали, держали стремена, а теперь равнодушны к тебе? Чот молчит. А калмыки - не понравился им вопрос, застыдились - все враз встали и пошли, будто по делу, кто к коню, седло поправить, кто к речке, воды попить. Чот ничего не ответил. Только вздохнул. А калмыки, спрошенные после, когда Чот ушел домой, сказали: - Хоть новая наша вера лучше старой, но мы видим, что русское начальство недовольно им. И мы поэтому подозреваем, что в этой вере есть что-то плохое. А что - не знаем. Не можем увидать. Поэтому боимся открыто оказывать почести Чоту. Боимся, как бы не донесли начальству староверы. И почему начальство не одобряет нашей веры? Ведь она лучше старой? Рассказчик закончил: - Я слышал, что где-то сидит на Алтае лама. Кажется, из новообращенных. Лама будто бы говорит: "Это учение - ламаизм, особый, алтайский, временный. Калмыки - дети. С ними надо по-детски поступать. Давать то, что доступно их пониманию. Когда созреют - догма веры расширится и приблизится к истине". XIII. Древние памятники От Кеньги к Онгудаю дорога идет красивою долиною Урсула. В 17 верстах от Кеньги - деревня Туехта, единственный пункт на всем Чуйском тракте, где скотогон может обстричь своих овец, идущих в Бийск из Монголии. Своего рода овечья парикмахерская. Стрижкою занимаются по преимуществу женщины. - Иная, которая проворная, может за день до 70 овец обкорнать. Рубля два заработать может. За Туехтой начинают встречаться древние курганы, по местному бугры, остатки прежних жилищ, каменные бабы. Все эти памятники, попадающиеся то здесь, то там вплоть до монгольской границы, свидетельствуют о когда-то живших здесь и ушедших отсюда иных насельниках, седая память о которых сохранилась лишь в местных былинах. Вот, например, возле Инн есть камень-баба. Это огромная тонкая плита, больше сажени в квадрате, ловко воткнутая торчком в землю. Стоишь возле нее, маленький, и думаешь: "Как мог дикий человек умудриться ее, матушку, трехсотпудовую, притащить сюда, поднять на ребро и врыть в землю?" Но наше недоумение тут же разрешает наш проводник. Он рассказывает: - В нетеперешние времена, когда белой березы на свете не было, проезжал этим местом сильный богатырь. Ему нужно было на Чую попасть, а брода он не знал. Поехал без брода, а река глубокая да быстрая: конь чуть не захлебался. Однако выплыл, лишь потник, что у коня под седлом, подмочил. Надо потник высушить. Огляделся богатырь кругом - ни одного деревца, огляделся кругом- ни одного кустика: ровная степь среди гор, потник повесить для просушки не на что. Залез тогда богатырь на гору, выворотил каменище, да как хватит с горы! Как гвоздь камень вторгнулся, на сажень в землю ушел. Вот этот самый и есть. Так старики сказывают. Искал я на этом камне письмен - нету. Лишь сбоку высечен нож, да еще расписались белилами в своей безграмотности, проходившие недавно "братья Климовы". Кстати надо заметить, что русский человек очень любит увековечить свое имя: все дома, скалы, камни исписаны автографами проезжающих вперемешку с непотребными словами, во что бы то ни стало нацарапать которые так зудится хулиганская рука. За Туехтой, вблизи реки Талды саженях в 50 от дороги, две хорошо сохранившиеся каменные бабы с искусно высеченными лицами. Давно бы их необходимо было выкопать и увезти в музей. Не место им здесь. На их каменных носах упражняются в метании камней проходящие возчики груза. До поклонения искусству они не доросли, им мало дано, с них короток и спрос, но с сибирского общества такое пренебрежение к изваяниям древних - взыщется. - Скажи мне, друг, - обращаюсь я к калмыку, - что значат эти круглые, неглубокие, заросшие травой и бурьяном ямы, охваченные кольцом из булыг? Таких ям много. То в одиночку встречаются, то по две, по три. Иногда их целая улица в два поезда. - Мы не знаем. Говорят, что жилища, юрты живших здесь людей. Вот видишь, много камней столбами стоят - это ихнее кладбище. Видишь, в стороне большой камень стоит - тут богатырь зарыт. Вот и говорят, что в этих ямах жили люди. А сверху у них надстройки из кошмы или коры были. А кругом все было камнями завалено для тепла. Так они и жили. Потом прошел слух, что белое дерево на земле появилось, белая береза. Слух прошел, что вместе с деревом где-то белый царь народился, которому дано их покорить. Они очень испугались. Они сказали: "Пришло время умереть нам добровольно". Сделали над жилищами на деревянных столбах помосты, нагрузили помосты камнями, зашли каждый в свою яму, помолились, распрощались друг с другом и подрубили деревянные столбы. Камни рухнули на них и задавили. Так старики сказывают. XIV. Онгудай Онгудай. Последний культурный до Кош-Агача поселок. Здесь телеграф имеется, есть с живой душой люди, можно встретить относительный уют. Онгудай. Его российские переселенцы часто "Возгудай" зовут. Въедет с своею парусиною кибиткой в самое село, да и спрашивает какую-нибудь всю в кумаче бабу: - А скоро ль, тетенька, Возгудай будет? Та хохочет и отвечает ему: - Не доходя прошедши. Придорожная трава пыльная, притрактовая баба вольная. Про онгудайскую бабу широко слава идет. - Онгудайская - охо-хо-о-о... Онгудайский мужик - проворный, говорун. Живут себе, питаются у тракта хорошо, извозом занимаются, сено для ямщиков готовят, хлеб сеют. Не заметил я, чтоб они "до смерти работали", но что "до полусмерти пьют", - это я высмотрел прекрасно. И откуда они берут водку? Монополька почти за 200 верст от них, в Алтайском. Не арыки ли, проведенные сметливой рукой сибиряка по всему селу, по каждому огороду, несут в себе это окаянное пойло, эту гадкую отраву души и тела? Когда же этому конец? Русский мужик погряз, русский мужик вконец пропивается, он на вымирание себя обрекает, он в пьяном виде зачинает детей, производит больное, нервное потомство. Дай бог, чтоб я ошибался. Но преступно на это закрывать глаза. Если мужик сам не может выпростаться из болота, надо его схватить за волосы, вытащить и поставить на гору: "Иди и впредь не греши!" Но кто, кто это сделает, где у нас такой богатырь? Родился ли? А надо что-нибудь делать, надо торопиться. Время летит быстро, а зеленый черт с зелеными глазищами орудует вовсю. Онгудай село красивое. Уж осенью взобрался я на гору и глянул на село. День ясный был. Под ногами желтый лист лежал, деревья оголялись. А кругом все еще зеленели горы. Село сверху маленьким кажется, "но взаправдашним", как сказал бы крестьянский мальчуган. Две улицы по селу прошли. Две церкви, старая и новая на пригорке красуются в зеленых рощах. Вдоль села Урсул гремит, по селу речка Онгудай течет, а от нее голубыми не пыльными тропинками бегут в канавках холодные ручейки - арыки. То здесь, то там среди села стоят зеленые колки: ели, лиственницы сбежались кучками и шепчутся. Кругом села желтеющие нивы: хлеб убран, сложен в желтые огромные зароды. Целая улица их. Нынче урожай хорош. Какая жара. Воздвиженьев день, а солнце печет немилосердно. И уж кстати замечу. Что за Алтай, что за страна сюрпризов! Вечером туча зашла, засияла молния, гром загрохотал. На другой день хиус подул, холоду нагнал, на третий день, 16 сентября, из Топучей в Шелаболиху я приехал на санях, зима была. А потом опять лето настало, теплое, бабье лето. Онгудай село торговое. Зимой там ярмарка бывает, приезжают на ярмарку монголы на верблюдах за мукой. XV. Веселые кержаки Онгудайский ямщик стонет, ропщет на судьбу: - И что ж это, господи, за напасть! Этакий наш окаянный станок. В одну сторону, к Кеньге, 35 верст, ну, тут хоть дорога ровная, в другую 42 версты. Это изволь-ка через Чике-Таман-то перелезть. Убой. Прямой убой для коней. И чего не сделают еще станка: один до Туехты, другой до Хабаровки. Чего ж это начальство-то... шутит, что ли, или смеется?! Действительно, станок трудный. Чике-Таман - это своего рода колокольня Ивана Великого, причем неразумная природа так ухитрилась поставить, что мудрым строителям тракта пришлось вести дорогу чрез самый крестик этой колокольни. Но прежде, чем подойти к сему страшному перевалу, остановимся на минутку в попутной кержацкой деревне Хабаровке. Хабаровка славится изобилием плодов земных; картошки, капусты, всяческих хлебных злаков, изредка арбузов, еще славится сильными бородатыми мужиками, дородными молодухами, как красный мак, цветущими в любое время года, а больше всего-необычайно веселым медовым пивом, называемым по-кержацки "травянушкою". Травянушка весьма крепкая, быка с ног свалит. - С трех стаканов человек обязательно должен с копытков слететь,- говорят про свое исчадие веселые кержаки. Как только начнет пчела мед таскать, кержак принимается варит травянушку. И по праздникам дым коромыслом стоит по деревне. Самый же большой разгул начинается с осени, когда убран хлеб и подведены итоги лету. Ведь вот тоже гуляют; удало гуляют, православный, не подвертывайся под руку - запоят до смерти, молодой джигит-киргиз, не попадайся бабам-озорницам, скачи на своем удалом коне куда глаза глядят! С треском гуляют кержаки. А между тем во всем у них видно довольство, видна любовь к земле. Православные говорят про них: - Первые разбойники... - Как так? - Грабители, самые первейшие конокрады. Но мне этому верить не хочется. XVI. "Черт-атаман" Чике-Таман. Прежде всего изречение, нацарапанное на придорожном столбе, на самой вершине перевала рукою отчаявшегося ямщика: "Ета не Чекетаман, а Черт-атаман, сорок восемь грехов". В этом все сказано, вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и погубившего здесь, может быть, не одну лошадь. Чике-Таман - огромный горный кряж, преградивший путь в долину Улегома, куда выходит тракт. Вы подъезжаете вплотную к горе, выходите из повозки и пешком поднимаетесь по бесконечным извилинам тракта, подобно пьяному мужику, выписывавшему мыслете по крутому склону горы, и, измучившись, благополучно достигаете вершины перевала. А лошади тем временем надрываются над вашим экипажем. Вы поднялись на сто шестьдесят сажен и на столько же должны спуститься. А горизонтальное расстояние между крайними точками подъема и спуска всего одна верста. Все эти отдельные зигзаги тракта очень коротки и узки, радиусы закруглений малы, уклоны велики. Телега в закруглениях иногда не может повернуться: колеса висят над ничем не огражденной пропастью. Еще один неловкий шаг лошади, и она вместе с возом сорвется вниз. И вот тут-то начинается ад. В особенности весной, или во время дождей, когда дорога покрывается липкой грязью. Ругань самая отъявленная, какую только может выдумать озверелый человеческий ум, грохочет в горах. Ямщики ревут дикими, сумасшедшими голосами, - глаза у них свирепые, руки разбойные - палками и камнями бьют лошадей, лошадиные тощие бока, как барабан пустой, отдаются на удары, лошадь еле дышит, у ней в глазах темно, она сердце надсадила, у ней ноги дрожат, бока от палок ноют, в глазах ужасная боль стоит и мука. - Но, холера! Но, падина! - Что ты делаешь! - кричу я.- Как ты смеешь бить свою кормилицу? - А она, черт, не видит, куда везет... Ишь напрокинула... Но как может знать лошадь, куда ей идти, если заблудились при постройке сами строители, проводят тракт не там, где нужно. В.Я Шишков - уроженец Тверской земли. Детские годы его прошли в Бежецке и деревне Дубровы Бежецкого уезда, где жила его бабушка, крепостная крестьянка. Брат писателя А.Я. Шишков вспоминал: « …Бабушка Елизавета Даниловна больше других занималась с внуками…». Она знала множество песен, сказок, преданий. Рассказы бабушки надолго сохранились в памяти будущего писателя и впоследствии нашли отражение в его творчестве. Показателен в этом отношении рассказ Шишкова «Алые сугробы». Уже тема этого произведения - поиски Беловодья, праведной земли, своеобразного рая для мужиков, т.е. некоего чудесного пространства, отсылает нас к сказке. Конечно, отправляются персонажи не за Жар-птицей и не за молодильными яблоками, но то, что ищут они так самоотверженно, существует ли в действительности? Там «пшеница само собою круглый год растет- ни пахать, ни сеять, - яблоки, арбузы, виноград, а в цветистом разнотравье без конца, без счета стада пасутся- бери, владей. И эта страна никому не принадлежит, в ней вся воля, вся правда искони живет, эта страна – диковинная…» Недаром для обозначения этой земли несколько раз используется сказочная формула «реки молочные, берега кисельные», а многие люди, у которых герои спрашивают дорогу в Беловодье, относятся к ним с иронией. В построении системы образов автор также обращается к традициям устного народного творчества, в частности, использует прием антитезы для создания характеров главных героев – Афони и Степана. Афоня напоминает Иванушку - дурачка из сказки. «Афоня … какой-то белесый, точно из крупчатки с мякиной сделан… тихий, задумчивый, весь в мечте, весь в сказке…». Степан « угрюмый, черный,…, голосом груб, взором грозен… Степан - черту брат: повстречается медведь-стервятник- хвать ножом, как пить даст… Афоня же с дудочкой соловьев любил ловить, а ружья боялся.» Афоня нескладен, слаб по сравнению со Степаном. Он действительно верит в чудо, живет в мире фантазий. Степан говорит ему: «… Ты все над землей привык порхать, по-птичьи. Сказки бы тебе бабьи слушать…Я знаю, о чем ты думаешь… Вот ужо тебя Богородица или Андел божий на крыльях прямо в Беловодье , к кисельным берегам…». Автор несколько раз проводит в тексте сравнение с парящей птицей: «Афоня весь в порыве, в трепете: вспорхнуть бы, облетать бы, а крыльев нет…», подчеркивая его устремленность к небесному, духовному, чудесному. Он обещает матери: « Не плачь, матушка, брось… Ох, и сказок я тебе расчудесных привезу…». У встречных мужиков он спрашивает: «…не водится ли в тех местах летучий змей с хвостом?...а красива ли дорога? … а какого цвета горы?... а какие распевают там птицы?». В жизни для него важно не богатство, сытость, состояние, а красота и правда. Поэтому и Беловодье для него, в первую очередь, является не сколько страной с «молочными реками, кисельными берегами», сколько пространством истины, справедливости, доброты, праведной землей. Степана интересуют подробности сложного пути, детали перехода через перевал. А конечной целью путешествия ему представляется богатый край, где каждый сыт и богат, где сама земля кормит мужика. По логике развития характеров в реалистическом рассказе неумелый, слабый Афоня, по неопытности погубивший лошадь, заболевший в пути, ставший обузой для Степана, должен был погибнуть в суровых мрачных скалах. Но, как в сказке Иванушке – дурачку достается награда, так и в этом произведении именно Афоне суждено было увидеть Беловодье. Почему? Степан - мужественный, стойкий, сильный, волевой человек. Он хороший друг. Не раз спасает напарника. Помогает ему идти, тащит порой буквально на себе, отдает больному свой тулуп в лютый мороз и свирепый ветер. И, наконец, совершает смертельный прыжок через бездонную пропасть, чтобы спасти друга. Он погибает, но его предсмертный крик привлекает внимание охотника, который и находит умирающего Афоню. Почему же награда не достается мужественному и самоотверженному Степану? Афоня - глубоко верующий, православный христианин, он свято верит в Бога. Во время пути не раз обращается к Господу, молится, вспоминает мать, жену, детушек. И мать молится за него. Он- духовно сильный человек, его не может сломить никакая преграда на его пути к мечте. И Беловодье для него, скорее, духовная категория - «…Беловодье- божье…». Для него важна духовная сторона бытия. У Степана, при всех его положительных качествах, вера в Бога слаба, он обращается к черту. Для него Беловодье это, прежде всего, «чернозем… Да всякое угодье… Пущай мужики на землю крепко сядут. Отъедятся хоть…». Он стремится к идеалу сытости. Как и в русской народной сказке здесь противопоставлены два взгляда на счастье, два противоположных понимания идеала. Таким образом, чудесное спасение Афони связано с воплощением идейного замысла: светлая вера творит чудеса и награду получает тот, кто является носителем лучших нравственных качеств. Рассказ можно рассматривать и как своеобразную реплику в диалоге с А.М. Горьким, который поднимал вопрос о вере в праведную землю в пьесе «На дне». Фольклоризм в этом рассказе проявляется на разных уровнях, в том числе, и на уровне композиции, и на уровне поэтики. Само начало произведения напоминает присказку, в которой есть прямые отсылки к жанру фольклора: «Есть на свете такая на диковинная страна, называется она- Беловодье. И в песнях про нее поется, и в сказках сказывается…» Сказочные формулы традиционны для сказочного сюжета путешествия: «Поклонились путники всему согласию в ноги, помолились на церковь, на родительские могилы, вскочили в седла и – в дорогу…» Как и в русских народных сказках, здесь используются постоянные эпитеты, часто в сочетании с инверсией: «Земли в ней тучные, дожди теплые, солнышко благодатное…» Сказочная метафора для обозначения солнца: «… и жар-птица только к полдню вздымет над козявками свой палящий ослепительный костер…». Описание явлений природы тоже отсылает нас к сказке. Вот как воспринимает Афоня водопад: «Вот так чудо!.. Вот так диво!...он весь во власти этого дьявольского грохота, этих невиданных чудес, ему хотелось и хохотать, и плакать… Торопливо, словно во сне, он крестился … взглядывал сквозь радугу на живую сказку…» Речь персонажей, особенно Афони, изобилует словами с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «миленькая», «лошадушки», «детинушка моя», «матушка», «женушка», «детушки». Как и в сказке или народной песне, он обращается к силам природы: «Солнышко красное, укажи путину верную…». Встречаются лексические повторы, анафора. Итак, мы убедились, что традиции устного народного творчества действительно пронизывают разные уровни текста произведения. Какова же их функция? Возможно, сказочный мотив путешествия, элементы композиции, сказочный образ Беловодья, фольклорный подтекст в создании характеров героев (особенно Афони), художественные приемы (сказочные формулы, инверсия, лексические повторы, постоянные эпитеты) и т.д. способствует осмыслению автором действительности с позиций традиционных нравственных категорий. Автор утверждает мысль о том, что в системе нравственных ценностей на первом месте должны стоять духовность и праведность, вера в Бога, бескорыстие, честность, справедливость, милосердие, благородство, близость к природе. Именно эти качества, которые можно назвать лучшими качествами народного характера, сконцентрированы в главном герое – Афоне. Именно о нем можно сказать, что этот человек обладает внутренней красотой. Используя фольклоризм, автор заставляет читателя задуматься о важнейших категориях бытия, заставляет вернуться к народным корням, к нравственным истокам существования человека. |
