ТМО тема 3. Тема 3 Базовые традиции и парадигмы теории международных отношений
 Скачать 433.23 Kb. Скачать 433.23 Kb.
|
 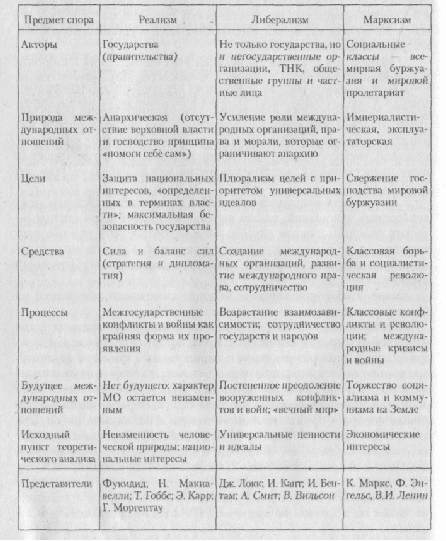 Тема 3 Базовые традиции и парадигмы теории международных отношений Тема 3 Базовые традиции и парадигмы теории международных отношений
Теоретические традиции в той или иной науке связаны с кропотливым накоплением данных наблюдения и исследования определенного явления или совокупности явлений, представляющих собой ее объект. Одним из первых письменных источников, содержащих глубокий анализ отношений между суверенными политическими единицами, стала написанная более двух тысяч лет назад Фукидидом (471-401 до н.э.) «История Пелопоннесской войны в восьми книгах». Многие положения и выводы древнегреческого историка не утратили своего значения до наших дней. Задавшись вопросом о причинах многолетней и изнурительной войны между афинянами и лакедемонянами, античный историк обращает внимание на то, что это были наиболее могущественные и процветающие народы, каждый из которых главенствовал над своими союзниками. Поскольку оба могущественных государства превратились в своего рода империи, усиление одного из них как бы обрекало их на продолжение этого пути, подталкивало к стремлению подчинить себе все свое окружение, с тем, чтобы поддержать свой престиж и влияние. В свою очередь, другая «империя», так же как и менее крупные города-государства, испытывая растущие страх и беспокойство перед таким усилением, принимает меры к укреплению своей обороны. Тем самым государства втягивались в конфликтный цикл, который в конечном итоге неизбежно выливается в войну. Вот почему Фукидид с самого начала отделяет причины Пелопоннесской войны от многообразных поводов к ней. Древнегреческий историк настаивает на том, что в конфликте между двумя политическими единицами главным и наиболее убедительным аргументом может быть только сила. Вместе с тем, по мнению Фукидида, сила и могущество государства - это не самоцель. Они служат лишь основными инструментами вотстаивании интересов государства, его чести (престижа) и его безопасности. Объективность и глубина анализа описываемых им событий способствовали тому, что, предвосхитив многие положения последующего развития теории международных отношений, Фукидид стал, в известном смысле, родоначальником одной из наиболее влиятельных традиций, существующей в современной международно-политической науке. В дальнейшем эта традиция, получившая название классической, была представлена во взглядах Никколо Макиавелли, Томаса Гоббса, Эмерика де Ваттеля и других мыслителей, приобретя в XVIII в. наиболее законченную форму в работе немецкого генерала Карла фон Клаузевица. Разновидностью этой традиции стала теория политического равновесия, которой придерживались, например, голландский мыслитель Барух Спиноза (1632-1677), английский философ Дэвид Юм (1711- 1776) и упоминавшийся выше швейцарский юрист Эмерик де Ваттель. В отличие от Гоббса, де Ваттель считал, что «Европа представляет собой политическую систему, некоторое целое, в котором все связано с отношениями и различными интересами наций, живущих в этой части света. Она не является, как некогда была, беспорядочным нагромождением отдельных частиц, каждая из которых считала себя мало заинтересованной в судьбе других и редко заботилась о том, что не касалось ее непосредственно». Постоянное внимание суверенов ко всему, что происходит в Европе, постоянное пребывание посольств, постоянные переговоры способствуют формированию у независимых европейских государств, наряду с национальными, еще и общих интересов - интересов поддержания в ней порядка и свободы. «Именно это, - подчеркивает де Ваттель, - породило знаменитую идею политического равновесия, равновесия власти. В то же время Э. де Ваттель в полном соответствии с классической традицией считал, что по сравнению с интересами нации (государства) интересы частных лиц вторичны. В XIX в. классическая традиция наиболее полно и последовательно нашла свое воплощение во взглядах немецкого генерала Карла фон Клаузевица в его книге «О войне». Клаузевиц не только считает аксиомой тезис о том, что международные отношения суть отношения между государствами, но и саму политику трактует как единую, целостную стратегическую линию государства по отношению к внешнему миру, не уставая при этом повторять, что война ^всего лишь орудие политики, ее инструмент. Каким бы сильным ни было воздействие военных соображений на намерения и направление политики, следует всегда помнить, что именно «политическое намерение является целью, война же только средством, и никогда нельзя мыслить средство без цели». Параллельно с классической формируется и другая традиция, которую в Европе связывают с философией стоиков, развитием христианства, взглядами испанского теолога-доминиканца Франциско де Виториа (1480-1546), голландского юриста Гуго Гроция (1583-1645), представителя немецкой классической философии Иммануила Канта (1724-1804) и других мыслителей. В ее основе лежит идея о моральном и политическом единстве человеческого рода, а также о неотъемлемых, естественных правах человека. В разные эпохи, разными мыслителями эта идея облекалась в различные формы. Так, в трактовке Ф. Витории приоритет в отношениях человека с государством принадлежит человеку, государство же - не более чем простая необходимость, облегчающая проблему выживания человека. В конечном счете единство человеческого рода делает вторичным и искусственным любое разделение его на отдельные государства. Нормальным, естественным правом человека является его право на свободное передвижение. Иначе говоря, естественные права человека Витория ставит выше прерогатив государства, тем самым предвосхищая и даже опережая современную либерально-демократическую трактовку данного вопроса. Сторонники рассматриваемой традиции убеждены в возможности достижения вечного мира между людьми - либо путем правового и морального регулирования международных отношений, либо иными путями, связанными с самореализацией исторической необходимости. По Канту, например, подобно тому, как основанные на противоречиях и корысти отношения между отдельными людьми в конечном счете неизбежно приведут к установлению правового общества, так и отношения между государствами должны смениться в будущем состоянием вечного, гармонически регулируемого мира. Представители этой традиции исходят не столько из сущего, сколько из должного, опираясь на соответствующие философские идеи, и апеллируют к моральным и правовым аргументам, отстаивая неотъемлемые права личности, поэтому за ней закрепилось название либерально-идеалистической. В рамках данной традиции между линией Канта и Витория, с одной стороны, и линией Гроция - с другой, есть одно существенно важное различие. Речь идет о том, что М. Уайт назвал различием между революционаризмом и рационализмом. Сторонники революционаризма настаивают на приоритете моральных норм и неотъемлемых и вечных, а потому естественных прав человека: «Право человека должно считаться священным, каких бы жертв ни стоило это господствующей власти», - утверждал И. Кант. Поэтому, по его мнению, «политические максимы, какие бы ни были от этого физические последствия, должны исходить не из благополучия и счастья каждого государства, ожидаемых от их соблюдения, следовательно, не из цели, которую ставит перед собой каждое из этих государств, как высшего (но эмпирического) принципа государственной мудрости, а из чистого понятия правового долга, принцип которого дан apriori чистым разумом». Сторонники рационализма подчеркивают значение правовых норм, разработанных и принятых государствами в процессе их общения. Базируясь на общечеловеческих нравственных универсалиях и неотъемлемых правах и свободах личности и представляя собой их кодификацию, эти нормы вместе с тем отражают сложившиеся в практике межгосударственных отношений подходы к вопросам войны и мира, не подлежат пересмотру в произвольном порядке и не допускают их нарушения без серьезных последствий для международного порядка и стабильности. Указанное различие, как мы увидим в дальнейшем, приобретает исключительную важность в свете проблемы так называемого гуманитарного вмешательства и концепции кооперативной безопасности. Возникновение в середине XIX в. марксизма обусловило появление еще одной традиции во взглядах на международные отношения, которая не сводится ни к классической, ни к либерально-идеалистической традициям. Согласно К. Марксу, всемирная история начинается с капитализма, ибо основой капиталистического способа производства является крупная промышленность, создающая единый мировой рынок, развитие средств связи и транспорта. Буржуазия путем эксплуатации мирового рынка превращает производство и потребление всех стран в космополитическое и становится господствующим классом не только в отдельных капиталистических государствах, но и в масштабах всего мира. Международные отношения в экономическом плане становятся отношениями эксплуатации. В плане же политическом они становятся отношениями господства и подчинения и, как следствие, отношениями классовой борьбы и революций. Тем самым национальный суверенитет, государственные интересы вторичны, ибо объективные законы способствуют становлению всемирного общества, в котором господствует капиталистическая экономика и движущей силой которого является классовая борьба и всемирно-историческая миссия пролетариата. «Национальная обособленность и противоположность народов, - писали К. Маркс и Ф. Энгельс, - все более и более исчезают уже с развитием буржуазии, со свободой торговли, всемирным рынком, с единообразием промышленного производства и соответствующих ему условий жизни». В свою очередь, В.И. Ленин подчеркивал, что капитализм, вступив в государственно-монополистическую стадию своего развития, трансформировался в империализм. В работе «Империализм как высшая стадия капитализма» он пишет, что с завершением эпохи политического раздела мира между империалистическими государствами на передний план выступает проблема его экономического раздела между монополиями. Монополии сталкиваются с постоянно обостряющейся проблемой рынков и необходимостью экспорта капитала в менее развитые страны с более высокой нормой прибыли. Поскольку же они сталкиваются при этом в жестокой конкуренции друг с другом, постольку указанная необходимость становится источником мировых политических кризисов, войн и революций. Рассмотренные основные теоретические традиции в науке о международных, отношениях - классическая, либерально-идеалистическая и марксистская - во многом остаются актуальными и сегодня. Несмотря на то, что конструирование международно-политической теории в относительно самостоятельную область знания повлекло за собой значительное увеличение многообразия теоретических подходов и методов изучения, исследовательских школ и концептуальных направлений, основные проблемы данной науки 'отражаются в ее главных парадигмах.
Под парадигмой понимается совокупность ряда общих допущений, разделяемых научным сообществом или его частью, на которые в дальнейшем ориентируются теоретические и эмпирические исследования. Это либерально-идеалистическая парадигма, парадигма политического реализма и марксистская или социалистическая парадигма. На основе этих «канонических» парадигм во многом строятся различные, в том числе и самые современные, теории международных отношений. Положения парадигм могут быть сгруппированы на основе разной интерпретации следующих вопросов международно-политической науки. 1) Кто является главными действующими лицами (акторами) международных отношений? 2) В чем состоит специфика (природа) этих отношений? 3) Что представляют собой основные международные процессы? 4) Какие главные цели преследуют участники международных отношений? 5) Каковы основные средства их достижения? 6) Как может выглядеть будущее международных отношений? Кроме того, «канонические» пардигмы исходят из разных аналитических предпосылок. Либерально-идеалистическая парадигма - теоретическое наследие Фукидида, Макиавелли, Гоббса, де Ваттеля и Клаузевица, с одной стороны, Витория, Гроция, Канта - с другой, нашло свое непосредственное отражение в крупной научной дискуссии, которая возникла в США в период между двумя мировыми войнами, дискуссии между реалистами и идеалистами. Идеализм в современной науке о международных отношениях имеет и более близкие идейно-теоретические истоки, в качестве которых выступают утопический социализм, либерализм и пацифизм XIX в. В политической практике идеализм нашел свое воплощение в разработанной после Первой мировой войны американским президентом Вудро Вильсоном программе создания Лиги Наций (Вильсон, 1997), в Пакте Бриана - Келлога (1928), предусматривающем отказ от применения силы в межгосударственных отношениях, а также в доктрине Стаймсона (1932), по которой США отказываются от дипломатического признания любого изменения, если оно достигнуто при помощи силы. В послевоенные годы идеалистическая традиция нашла определенное воплощение в.деятельности таких американских политиков, как госсекретарь Джон Ф. Даллес и госсекретарь Збигнев Бжезинский (представляющий, впрочем, не только политическую, но и академическую элиту своей страны), президент Джимми Картер (1976- 1980) и президент Джордж Буш (1988-1992). В научной литературе она была представлена, в частности, книгой таких американских авторов, как Р. Кларк и Л.Б. Сон «Достижение мира через мировое право» (Clark & Sohn.1966). Ключевые положения либерально-идеалистической парадигмы выглядят следующим образом.
Идеалистическая парадигма, существовавшая в истории международных отношений на протяжении веков, сохраняет определенное влияние и в наши дни. Это влияний просматривается и в тех практических шагах, которые предпринимаются мировым сообществом по демократизации и гуманизации международных отношений, и в стратегии нового мирового порядка, ставшей основой внешнеполитической линии США после холодной войны, и в вызывающей не менее острые идейные и политические разногласия концепции кооперативной безопасности. В 1930-е гг. лежащий в его основе нормативистский подход оказался глубоко подорванным вследствие нарастания напряженности в Европе, агрессивной политики фашизма и краха Лиги Наций, развязывания мирового конфликта 1939-1945 гг. Значительный урон либерально-идеалистической парадигме нанесла «холодная война» в последующие десятилетия. Результатом стало возрождение на американской почве европейской классической традиции с присущим ей выдвижением на передний план в анализе международных отношений таких понятий, как «сила» и «баланс сил», «национальный интерес» и «конфликт». Политический реализм. Политический реализм не только подверг идеализм сокрушительной критике, указав, в частности, на то обстоятельство, что идеалистические иллюзии государственных деятелей того времени в немалой степени способствовали развязыванию Второй мировой войны, но и предложил достаточно стройную теорию. Ее наиболее известные представители - Рейнхольд Нибур, Фредерик Шуман, Джордж Кеннан, Джордж Шварценбергер, Кеннет Томпсон, Генри Киссинджер, Эдвард Карр, Арнольд Уолферс и др. - надолго определили пути науки о международных отношениях. Бесспорными лидерами этого направления стали Ганс Моргентау и Реймон Арон. Так, работа Г. Моргентау «Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир» (см.: Morgenthau. 1961), первое издание которой увидело свет в 1948 г., стала своего рода «библией» для многих поколений студентов-политологов как в самих США, так и в других странах Запада. Общими для представителей политического реализма являются следующие ключевые положения парадигмального характера.
При этом важнейшим совокупным ресурсом государства выступает власть, которая понимается в самом широком смысле: как военная и экономическая мощь государства, гарантия его наибольшей безопасности и процветания, славы и престижа, возможности для распространения его идеологических установок и духовных ценностей. Но главным признаком власти является способность контролировать поведение других участников международных отношений. В этой связи Г. Моргентау прямо указывает на то, что «международная политика, как и политика в целом, является борьбой за власть», которая всегда остается непосредственной целью (Morgenthau. 1961. Р. 27).
Концептуальная стройность реалистской парадигмы, стремление опираться на объективные законы общественного развития, беспристрастно и строго анализировать международную действительность, отличающуюся от абстрактных идеалов и основанных на них бесплодных и опасных иллюзиях, - все это способствовало расширению влияния и авторитета политического реализма как в академической среде, так и в кругах государственных деятелей различных стран. Марксистско-ленинская парадигма. «Канонический» марксизм в современных международных отношениях - явление маргинального порядка. Даже у неомарксистской парадигмы, некоторые теории которой довольно далеко отстоят от своих «корней», сторонников сегодня меньше, чем у других направлений. Однако неомарксизм продолжает сохранять в теории международных отношений относительно прочные позиции. Чтобы понять суть неомарксизма необходимо рассмотреть один из его основных идейных источников - «канонический» марксизм.
Таким образом, резюмируя позиции рассматриваемых парадигм, их можно представить в виде табл. 1. , Таблица 1 3. «Большие споры»: место политического реализмаЕсли первый «большой спор» - дискуссия между реалистами и идеалистами - был начат представителями классической традиции и касался ключевых вопросов международно-политической науки (акторы й природа международных отношений, цели и средства, процессы и будущее), то «второй большой спор», развернувшийся в 1950-е гг. и достигший особого накала в 1960-е, инициировали сторонники новых подходов и новых исследовательских методов. Представители «модернизма», или «научного» направления в анализе международных отношений, чаще всего не затрагивая исходные постулаты политического реализма, подвергли его резкой критике за приверженность традиционным методам, основанным, главным образом, на интуиции, исторических аналогиях и теоретической интерпретации. Полемика между «модернистами» и «традиционалистами» была вызвана настойчивым стремлением ряда исследователей нового поколения (Куинси Райт, Мортон Каплан, Карл Дойч, Дэвид Сингер, Калеви Холсти, Эрнст Хаас и многие др.) преодолеть недостатки классического подхода и придать изучению международных отношений подлинно научный статус. Отсюда повышенное внимание к использованию средств математики, формализации, к моделированию, сбору и обработке данных, к эмпирической верификации результатов, а также других исследовательских процедур, заимствованных из точных дисциплин и противопоставляемых традиционным методам, основанным на .интуиции исследователя, суждениях по аналогии и т.п. Строгие научные методы использовались при исследовании не только международных отношений, но и других сфер социальной действительности, что свидетельствовало об усилении в общественных науках тенденции позитивизма, возникшей на европейской почве в XIX в. (еще Сен-Симон И.О. Конт предприняли попытку применить к изучению социальных феноменов строгие научные методы). Первым к использованию научных методов, методик в качестве, средств анализа международных отношений прибег американский ученый К. Райт. Подобный подход предполагал отказ от априорных суждений относительно влияния тех или иных факторов на характер международных отношений, отрицание как любых «метафизических предрассудков», так и выводов, основывающихся, подобно марксистским, на детерминистских гипотезах. Позитивисты в США пошли по пути уподобления общества живому организму, жизнь которого основана на дифференциации и координации его различных функций. С этой точки зрения, изучение международных отношений, как и любого иного вида общественных отношений, должно осуществляться последовательно: сначала изучают функции, выполняемые их участниками, затем взаимодействия между их носителями и, наконец, проблемы, связанные с адаптацией социального организма к своему окружению. В наследии органицизма, считает М. Мерль, можно выделить два течения. Одно из них уделяет главное внимание изучению поведения действующих лиц, другое - артикуляции различных типов такого поведения. Соответственно, первое дало начало бихевиоризму, а второе - функционализму и системному подходу в науке о международных отношениях. Явившись реакцией на недостатки традиционных методов изучения международных отношений, применяемых в теории политического реализма, модернизм не стал сколько-нибудь однородным течением - ни в теоретическом, ни в методологическом плане. Общим для него является, главным образом, приверженность междисциплинарному подходу, Стремление к применению строгих научных методов и процедур, к увеличению числа поддающихся проверке эмпирических данных. Его недостатки состоят в фактическом отрицании специфики международных отношений, фрагментарности конкретных исследовательских объектов, обусловливающей фактическое отсутствие целостной картины международных отношений, в неспособности избежать субъективизма. Тем не менее многие исследования представителей модернистского направления оказались весьма плодотворными, обогатили международно-политическую науку не только новыми прикладными методиками, но и весьма значимыми положениями. Сделав объектом своих изысканий отдельные государственные структуры, влияющие на процесс международно-политических решений и на межгосударственные взаимодействия, и более того, включив в сферу анализа негосударственные образования (частные предприятия, компании и организации), модернизм привлек внимание научного сообщества к проблеме международного актора. Он показал значимость негосударственных участников международных отношений. Наконец, важно отметить и то, что модернистские исследования открыли перспективу микросоциологической парадигмы в изучении международных отношений. В целом во «втором большом споре» не затрагивались ключевые вопросы международно-политической науки, обсуждались лишь методологические проблемы. По существу, позиции полемизирующих сторон относительно природы и основных акторов международных отношений, преследуемых ими целей и применяемых или имеющихся в их распоряжении средств, а также процессов, господствующих в международных отношениях, и перспектив их развития мало чем отличались друг от друга. Иначе говоря, второй спор не носил парадигмального характера: «модернисты» фактически не подвергали сомнению теоретические позиции своих оппонентов, во многом разделяли их, хотя и использовали в их обосновании иные методы и иной язык. Реалистское видение международных отношений оставалось в целом непоколебленным. Вот почему, несмотря на внешне непримиримый тон, эта полемика, в сущности, не имела особого продолжения: в конечном итоге стороны пришли к фактическому согласию о необходимости сочетания и взаимной дополняемости различных - «традиционных» и «научных» - методов, хотя такое «примирение» и может быть отнесено в большей мере к «традиционалистам», чем к «позитивистам». Вместе с тем «второй большой спор» стал важной вехой в становлении и развитии международно-политической науки: по сути, он знаменовал собой ту стадию, которую с необходимостью проходит в своем становлении и дальнейшем развитии любая научная дисциплина - стадию поиска собственных эмпирических методов, методик и техник исследования своего объекта и/или заимствования с этой целью методов, методик и техник других наук с последующим их переосмыслением и модификацией для решения собственных задач. В дальнейшем это способствовало преодолению крайностей в понимании соотношения и роли фундаментального и прикладного знания в изучении международных отношений и развитию в данной области прикладных исследований как важного и необходимого дополнения и обогащения теоретических Изысканий, основанных на сравнительном анализе и исторических обобщениях. В центре «третьего большого спора», начавшегося в конце 1970-х - Начале 1980-х гг., оказалась роль государства как участника международных отношений, значение национального интереса и силы для понимания сути происходящего на мировой арене. Сторонники различных теоретических течений, которых можно условно назвать «транснационалистами» (Роберт О. Кохэн, Джозеф Най, Йел Фергюсон, Джон Грум, Роберт Мансбэч и др.), продолжая традиции теории интеграции (Дэвид Митрани) и взаимозависимости (Эрнст Хаас, Дэвид Моурс), выдвинули общую идею, согласно которой политический реализм и свойственная ему этатистская парадигма не соответствуют характеру и основным тенденциям международных отношений и потому должны быть отброшены. Международные отношения выходят далеко за рамки межгосударственных взаимодействий, основанных на национальных интересах и силовом противоборстве. Государство, как международный актор, лишается своей монополии. Помимо государств, в международных отношениях принимают участие индивиды, предприятия, организации, другие негосударственные объединения. Многообразие участников, видов взаимодействия (культурное и научное сотрудничество, экономические обмены и т.п.) и его «каналов» (партнерские связи между университетами, религиозными организациями, землячествами и ассоциациями и т.п.) вытесняют государство из центра международного общения, способствуют трансформации такого общения из «интернационального» (межгосударственного, если вспомнить этимологическое значение этого термина) в «транснациональное» (осуществляющееся помимо и без участия государств). «Неприятие преобладающего межправительственного подхода и стремление выйти за рамки межгосударственных взаимодействий привело нас к размышлениям в терминах транснациональных отношений», - пишут в предисловии к своей книге «Транснациональные отношения и мировая политика» американские ученые Дж. Най и Р. Кохэн (Keohane and Nye.1989). Революционные изменения средств связи и транспорта, трансформация ситуации на мировых рынках, рост числа и значения транснациональных корпораций обусловили появление новых тенденций мирового развития. Преобладающими среди них становятся: опережающий по сравнению с мировым производством рост мировой торговли, проникновение процессов модернизации, урбанизации и развития средств коммуникации в развивающиеся страны, усиление международной роли малых государств и частных субъектов, наконец, сокращение возможностей великих держав контролировать состояние окружающей среды. Обобщающим последствием и выражением всех этих процессов является возрастание взаимозависимости мира и относительное уменьшение роли силы в международных отношениях (см.: Най.1989). Таким образом, если полемика между традиционалистами и модернистами касалась главным образом методов исследования международных отношений, то представители транснационализма подвергли критике сами концептуальные основы классической парадигмы. Сторонники транснационализма1 часто склонны рассматривать сферу транснациональных отношений как своего рода международное общество, к анализу которого применимы те же методы, что позволяют понять и объяснить процессы, происходящие в любом общественном организме. Транснационализм способствовал осознанию ряда новых явлений в международных отношениях, поэтому многие положения этого течения продолжают развиваться его сторонниками и в 1990-е гг. (см., например: hoard. 1990; Badie et Smouts. 1993). Вместе с тем на него наложило свой отпечаток его несомненное идейное родство с классическим идеализмом с присущей ему склонностью переоценивать действительное значение наблюдаемых тенденций в изменении характера международных отношений. Во всех трех «больших спорах» так или иначе участвуют реалисты и неореалисты. В полемике со своими критиками неореалисты настаивают на том, что по мере технического прогресса и расширения сферы действия и объема финансовых рынков зависимость великих держав от своих внешнеэкономических партнеров не только не возрастает, но, напротив, уменьшается. Третий спор затронул один из наиболее важных постулатов реалистской парадигмы - о центральной роли государства как международного актора (в том числе о значении великих держав, национальных интересах, балансе силы и т.д.). Значение этого спора в свете изменений, которые происходили в мире в период разрядки напряженности в отношениях между главными сторонами биполярного мира, выходит за рамки различий аналитических подходов, дает импульс возникновению новых подходов, теорий и даже парадигм. Его участники пересматривают как теоретический арсенал, так и исследовательские подходы и аналитические методы. Под его воздействием в международнополитической науке возникают новые концепции - такие, как, например, концепция глобализации, которая несет на себе бесспорное влияние транснационалистских подходов, анализируется роль факторов, не связанных с политикой государства непосредственно, в частности, экономики и культуры. |
