Дипломная работа Философия игры. ДИПЛОМНАЯ. Человек всегда имел способность и склонность облекать в формы игрового поведения все стороны своей жизни
 Скачать 303 Kb. Скачать 303 Kb.
|
|
Формы общественной жизни: Спорт 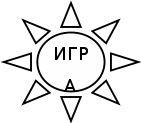 Международные МеждународныеОтношения Литература Право Культура Наука Религия Искусство Главными характеристиками игровой деятельности мы будем считать, вслед за Й. Хейзинги: наличие правил; увлеченность процессом игры и ожиданием конечного результата; тяга к игре; незаинтересованный характер игры; жажда грубых сенсаций; болезненная тяга к массовым зрелищам. В структуру игры входят: 1)правила игры, их разработка, готовность им следовать; 2)распределение ролей; 3) игровые употребления предметов (замещение реальных предметов игровыми, условными); 4) реальные отношения, сложившиеся между играющими. Глава вторая. Игровая модель мира в романе В.В. Набокова «Король, дама, валет». 2.1. «Homoludens» Набокова. Игра, по мнению Хейзинги, один из самых фундаментальных элементов жизни, она «… есть добровольное действие, либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели «обыденная жизнь» ( 11; 41). Именно в игре общество в целом и отдельно взятый человек выражает свое понимание жизни и мира. Пристальное внимание к игровой сфере человеческого бытия и инобытия позволяет открыть перспективы исследования личностных глубин, всегда привлекавших писателей - человековедов, среди которых интересной вершиной в плане художественного постижения игрового феномена является В. Набоков. Среди профессиональных исследователей - литературоведов и выступающих в этом качестве литераторов сложилось мнение о тяготении Набокова к игровой стихии не только в художественном, но и личностном планах. Например, набоковские «игры», ставшие частью его биографии, нередко воспринимаются как своеобразная «рисовка», эпатаж, вопреки правилам игры, т.е. «несерьезно». Так, А.Вознесенский ощущает научные исследования Набокова в области энтомологии именно как провокацию, имеющую своей целью удивить и ошеломить публику. Эта грань личности автора «Лолиты», умевшего, без сомнения, шокировать падкого до сенсаций обывателя, в разнообразных интервью иностранным журналистам и издательствам, самим же Набоковым подчеркивалась неоднократно. А.Вознесенский, произвольно трактуя признание писателя о величайшем наслаждении, которое тот испытывает при ловле бабочек, ищет в этом сложный подтекст. Возможно, поэт не совсем неправ, хотя М.Смирнов считает размышления А.Вознесенского надуманными. Притягательная сложность Набокова заключается в том, что балансирующего подчас на грани фарса писателя нетрудно «поймать» на игровом лукавстве, но гораздо сложнее исследовать ту грань, которая отделяет игру в жизнь от самой жизни с ее многочисленными смыслами и правдами, открывающимися у Набокова случайно, как бы «играючи». Следование игровой стихии в личностном и творческом планах вызывало противоречивые отклики среди набоковских поклонников и ниспровергателей. Для Г.Иванова Набоков – талантливый имитатор, профессиональный и оригинальный игрок в литературу, в творческий процесс. В подобии, имитации, безусловно, скрыт элемент игры, игровой деятельности. Но очевидно, что имитация предусматривает определенный шаблон, действие по образцу и подобию, повторение и закрепление вторичных признаков игры, в которой на первом месте всегда заложено мощное творческое начало. Именно имитационные действия Набокова – писателя, который аккумулировал литературные традиции русской и европейской литературы, закрепил их литературоведческой и преподавательской деятельностью, вызывали упреки со стороны Дм.Урнова. Увлекаясь игрой в литературу, Набоков нередко позволял себе «риторику», которая предстает в творчестве писателя в двух направлениях. С одной стороны, это художественное воспроизведение игровой стихии как сложной формы человеческого бытия, ее сущностной составляющей, с другой – игра с литературной традицией, игра особенно интенсивная в плане «технических» приемов и средств (набоковский художественный «кинематограф» – один из многочисленных примеров именно такого игрового экспериментирования – инварианта игры). Набоковская концепция сущности бытия базируется на платоновских идеях мира-театра, где каждому отведена своя роль. Априорность художественного мира Набокова соотносится с историей утверждения и становления «я» героя, она есть, с одной стороны, надындивидуальная, сверхэмпирическая, с другой – представляет собой некоторый итог личного опыта героя, утратившего ощущение рая и приблизившегося к началу познания истины. Она – в игре непрерывного перехода от одного состояния к другому, в процессе вечной незавершенности и непознаваемости бытия. Набоков вернул ощущение игры ХХ веку, который начинался с благородной игры, возможной только при подлинно высокой культуре, и который порядком «подрастерял» свою «игривость», подходя к знаменательному рубежу смены эпох. По мнению Н.А.Бердяева, периодом «обострения сознания» (13; 146) по праву может считаться рубеж веков, магический смысл которого подобен двуликому Янусу, объединившему антиномии входа и выхода, начала и конца. В фарсовой смене противоположностей – личин-ликов античного бога – заметно едва завуалированное комедианство в широком значении этого понятия. Особая восприимчивость, «обостренность» сознания и подсознания спровоцировали общественный бум, который ниспровергал не только все и вся, но интуитивно-осмысленно тяготел к запретному, тайному, неразгаданному. Противоречивая сложность рубежной эпохи, имеющей явное сходство с многоликим божеством, обострила тягу к анархии. Общее «безумие» жизни, опьянение свободой вседозволенности формировали восприятие окружающего мира через призму игрового начала, которое фокусируется искусством, литературой и, конечно же, личностью самого творца. Порубежье эпох обостряет интерес к творчеству художника – артиста, который приветствует активное вторжение игры в художественную ткань произведения, открывая все новые планы и смыслы. Созвучие комедийно-игрового, а подчас и фарсового начала переломного времени с мудрым лукавством Мастера высвечивает особые перспективы художественного исследования жизни. Такой художник, играючи, разрушает у читателя или зрителя представления об условности границ, отделяющих подлинное от вымышленного, открывая возможности переосмысления произведения искусства, проверяя его на предмет соответствия игровому характеру переломного момента. Рубеж эпох в искусстве и в литературе обычно связывают с отступлением на второй план классической модели художественного творчества, основанного на идее мимезиса. Объективный подход к изображению окружающей действительности сменяется усилением субъективной оценки, нарочитое отторжение художественной реальности от реальности жизненной акцентирует противостояние художника - творца и обывательски настроенной читательской аудитории. Нравоучительство и дидактизм сменяются игривой легкостью декларируемых философских парадоксов и повышенным вниманием к эмоционально - художественной жизни как литературного героя, так и его создателя. Еще юношей В.Набоков впитал в себя игровую стихию, которая отличает русскую культуру и литературу рубежа эпох. Из этой благотворной купели вышел художник с явным инстинктом театральности, для которого игра стала средством художественного познания и осмысления противоречивой экзистенциальности бытия, своеобразным компромиссом его апокалипсичности. Художественное исследование жизни под пером Набокова превращается в своего рода увлекательную игру, которую ведет сам автор, его герои и в которую невольно оказывается втянут читатель. Игровой момент пронизывает не только внешние, но и внутренние уровни архитектоники произведения. Игра становится своеобразным кодом, шифрующим и одновременно раскодирующим тайные смыслы и планы, призванные убедить читателя в многоголосной симфонии жизни, в которой увертюра начинается с радостной улыбки, а в трагическом финале явственно различима грозная ухмылка судьбы. В игровой атмосфере набоковского мира всегда «что-то случается, мелочь, нелепый казус, – и действительность теряет вдруг вкус действительности» (…..,126). Именно в эти мгновения, когда мир «жадно, как игривая собака», преподносит набоковскому герою очередную нелепость, приоткрывается одна из заветных тайн бытия: мир похож на веселого пса, который «стоит – ждет, чтобы только поиграли с ним (18; 223). Герои Набокова искренне предаются игре, находя в ней возможность установить гармонию и счастье. Истоки игры и ее потребность объясняются повышенной жизнерадостностью у некоторых набоковских героев, она происходит от избытка жизненных сил, жизненной энергии, которой нужен выход. При этом герой стремится реализовать малейшую возможность «поиграть», при этом испытывая целую гамму положительных эмоций. Роман В. Набокова «Король, дама, валет», на наш взгляд, представляет своеобразную энциклопедию игр и игровых ситуаций, которыми столь богато творчество писателя. Так, главный герой романа «Король, дама, валет», благодаря нелепому «казусу», получает удовольствие от двойной игры: игры в доброго покровителя-дядюшку, оказывающему протекцию бедному родственнику, сыну родной сестры, и более тонкой игры с Мартой, где роль Драйера заключалась в подтрунивании и поддразнивании жены, не желающей «играть» и вопринимающей жизнь по плану, когда все идет «прямо и строго, без всяких оригинальных поворотиков»( 18 ,120). Но не только избыток энергии заставляет набоковского человека – «луденс» обращаться к игре в разных жизненных ситуациях, но и желание получить удовольствие от самоутверждения, испытать эмоциональные импульсы, амплитуда колебаний которых достаточно высока. Имматериальная сущность игры угадывается героем нередко на подсознательном уровне и приходит как спасение, как лекарственное средство перед лицом жестокой и беспощадной реальности. Так, Марта и Франц с детской непосредственностью увлекаются «игрой в покойника», которая позволяет им предаваться неограниченным фантазиям о счастливой жизни вдвоем, без опостылевшего, «слишком живого», активно играющего в жизнь участника любовного треугольника в традиционном наборе игральных карт (король, дама, валет). В силу своей эмоциональной привлекательности мир, воссозданный с помощью игры, в сознании героев романа вытесняет реальный. Последний воспринимается враждебно, с ненавистью, особенно героиней. Марта в процессе игры открывает в себе второе «я», которое она уже не представляет, а осуществляет, воплощает. Поэтому переход от игры к жизни с каждым разом становится все болезненнее и невыносимее. Выход прост, чтобы сделать игру жизнью нужно выйти за пределы этических норм. Для «правильных» набоковских героев, не склонных воспринимать жизнь как веселую шутку и слишком «нормальных», существование за гранью, подсказанное игрой, обернулось отказом от общепринятых норм и правил, которые лежали на поверхности их сознания и представляли собой стандартный набор общеизвестных истин и ценностей. Таким образом, увлеченность игрой не только толкнула героев на путь преступления, но и стерла последние сомнения в саму возможность задуманного убийства. Воображаемая игра в покойника весьма естественно была перенесена в жизнь и не вызвала внутреннего душевного сопротивления ни у Марты, ни у Франца. Игра обрела право стать жизнью и потребовала от героев самых решительных действий. Главной помехой на пути «дамы» и «валета» был Драйер, но ему в игре отводилась статичная роль покойника, вот почему в многочисленных сценариях задуманного убийства «королю» предназначалась роль пассивной жертвы: он никогда, в мыслях Марты и Франца, не делал попыток к сопротивлению, не боролся. Навязанная ролевая функция настолько крепко проникла в сознание героев и закрепилась, что в воображаемых сценах убийства Драйер уже давно был трупом. Художественное исследование вторжения игры в жизнь обнажила понимание ее сущности писателем: в игре проявляется не только весь смысл и мудрость жизни, но за каждой игровой ситуацией скрывается особый смысл, поскольку каждая игра что-нибудь, да значит. Для набоковских героев потребность в игре является своеобразным противовесом монотонной однообразности действительности, играя, они получают редкую возможность ощутить таинственную загадочность мира, благодаря неожиданным «поворотикам». Но не только компенсаторная функция отводится игре: она не просто возмещает герою отсутствие «сумасшедшинки» в его однообразно текущей жизни, но позволяет набоковскому человеку неожиданно раскрыть внутреннее «я», сердечное и головное его составляющие. В игре набоковский герой утверждается и личностно и социально, проигрывая отдельные жизненные ситуации. Человек художественного мира Набокова удовлетворяет невыполнимые в реальной обстановке желания и осознает себя личностью. Пребывая в обманчивой игровой среде, «странный» герой Набокова проявляет некую иступленность, неистовость, при этом игра приобретает самостоятельное, самодовлеющее качество, губительное для «заигравшегося» человека. Главной жертвой игровой лихорадки в набоковском мартирологе является, без сомнения, Лужин. Преданность игре требует от героя Набокова полной самоотдачи, хотя он и осознает коварную двойственность игры, в которой все одновременно «понарошку» и «взаправду», герой вынужден играть «всерьез», подготавливая или заменяя игровой ситуацией жизненную. Такое отношение к игре требует от героя напряжения личностных качеств, проявления талантливости, незаурядности натуры, мощной эмоциональной экспансии. Взрыв чувств сопровождает любую игру: «На двух полюсах игровой атмосферы стоят ликование и экзальтация», - поскольку она не направлена на пользу, но приносит «удовольствие, отдохновение, радость и душевный подъем» (18, 212-213). Играющему человеку Набокова свойствен дуализм сознания, он отчетливо понимает, что перед ним не один мир, а несколько: мир игры и мир реальный, который следует воспринимать через атмосферу карнавала, сублимирующего игровое начало жизни. Карнавал, по определению М.М.Бахтина, - «вторая жизнь народа, организованная на начале смеха», существенно отличается от «первой» - будничной , повседневной, строго ограниченной правилами, традициями, писаными и неписаными законами и предрассудками. В психологическом плане это праздничный выход за пределы дозволенного, мощный выплеск подавляемых эмоций, подсознательных влечений и страстей, но при этом сохранивший свою четкую структуру, поскольку любая культурная форма имеет свои определенные каноны. Бахтинскую идею карнавализации жизни художественно представляет в романе В.Набокова «Король, дама, валет» седьмая глава. Рождественский вечер в семействе Драйера – не что иное как воссоздание праздника, отвечающего концепции карнавала, имеющего «свое оформление, свою тематику, свою образность, свой особый ритуал» (13; 95).Организацию «второй жизни» на основе смехового начала автор начинает с серьезной подготовки: карнавалу-празднику в доме преуспевающего коммерсанта предшествует череда важных событий, составляющих сюжетно-фабульную основу произведения. Во-первых, Драйер накануне попадает в серьезную аварию и чудом остается жив, отделавшись незначительными ссадинами и легким испугом, меньше повезло шоферу - бедняга умер от полученных ран в больнице. Во-вторых, Марта, пришедшая на свидание в Францем, была «поглощена какими-то чуждыми мыслями» (11;197). То, что беспокоило героиню, Набоков сумел передать незаконченной, но весьма многозначительной фразой, которая положит начало опасно – занимательной игры в покойника, полностью захватившей любовников: «Франц, - сказала она, гладя его по руке и этим его руку удерживая, - я ведь вчера предчувствовала… Подумай, он чудом выскочил…» (11; 197). Наивный Франц не может уловить коварную логику Марты и глупо ревнует ее к мужу. Представление о криминальном ходе размышлений героини дает следующая реплика: « Слушай, - сказала она, погодя. – Слушай, Франц,…как было бы чудесно, если б не нужно было мне уходить сегодня. Ни сегодня, ни завтра. И вообще – никогда» (11; 198). Мысленный толчок Марты подхватывает Франц, который включается в игру-фантазию об их воображаемом уютном рае, где они будут вместе. Но эти планы-мечты имеют терпкий привкус неосуществленности: «Мы бы жили в сырой комнатушке, впроголодь…Экономили бы на пище, на угле…». Как ни наивен и беспомощен Франц, но понимание этой правды жизни у него есть, как есть и осознание того, что без Марты он никто и ничто: «Я как пустой рукав без тебя» (11; 199). «Пустоту» Франца Марта старается заполнить: в логике ее размышлений появляется главная идея – ключ к их спасению. Она исподволь подводит к этой мысли Франца. И Франц, мысль которого катится от толчка данного ей Мартой, начинает мечтать, при этом герой не замечает «разъедающего, разрушительного свойства приятных мечтаний о том, как «Драйера хватит кондрашка». «Слепо и беззаботно он вступал в этот бред» (11; 200). Итак, важной сцене романа, выдержанной в духе карнавальной традиции и ставшей микроцентром, стянувшим к себе все карнавальные мотивы романа, предшествовали два важных обстоятельства: во-первых, расчетливая судьба первым звоночком предупреждает Драйера – человека, азартно играющего в жизнь, об опасности и убеждает Марту в том, что ожидание счастливой случайности бессмысленно. Никогда не игравшая Марта не решается доверить свою судьбу случаю, слишком насмешливому, коварному, неправильному, но не отказывается его поторопить. Во-вторых, она успешно медиумирует свои мысли Францу: «Что бы Марта не говорила, как бы нежно ни улыбалась, Франц в каждом ее слове и взгляде чуял неотразимый намек» (11; 200). Таким образом, двое из участников любовного треугольника вполне определились в своих тайных желаниях и мотивах, поэтому на карнавальной сцене настал черед действовать Драйеру. Праздничная атмосфера рождественской вечеринки накалялась: «Все…постепенно разогревалось, оживлялось, слипалось, пока не образовало одно слитное веселое существо, шумящее, пьющее, кружащеееся вокруг самого себя» (11;203). Кульминацией событий стал момент, когда герой вечера организовал представление с типичным для смеховой культуры постоянными персонажами карнавала: «король» взял на себя двойную роль шута и разбойника. Поскольку ему был необходим сообщник, который бы в нужный момент перекрыл бы выход из гостиной, Драйер привлек к своему спектаклю толстого Вилли Грюна. Воспользовался «король» и маскарадным костюмом, состоящим из маски, фонаря и живописных лохмотьев. Таким образом, некоторые элементы карнавального действия в этой сцене налицо: переодевание, обновление одежд и своего образа, маска разбойника, скрывающая подлинное лицо, распределение карнавальных ролей, прозрачность границ между актерами и зрителями. Организовать карнавальную ситуацию для Драйера оказалось возможным только на определенных условиях: четком осознании героем норм и отношений реальной действительности и игры. Идея Драйера «поиграть», а точнее разыграть публику воплощалась им в тот момент, когда «розовый» инженер рассказывал собравшимся страшную историю о том, как в такую же праздничную ночь трое господ в масках ограбили всю компанию. Предупредив Вилли о его действиях, Драйер исчезает, чтобы переодеться и внезапно предстать перед испуганными гостями в карнавально-разбойничьем виде. Внезапность появления «разбойника», темнота и всеобщее замешательство гипнотически действует на развеселившуюся публику. Резкий эмоциональный переход от безудержного веселья к страху и ужасу вызывает у присутствующих аффектацию и взрыв первобытных инстинктов. Если для главного участника маскарадного действия и его сообщника все происходящее было игрой, то для большинства гостей рождественской вечеринки дело приобретало нешуточный оборот, многие были испуганы «взаправду». Неслучайно обращает на себя внимание характерный жест «розового» инженера, который «вдруг заложил руку назад, под смокинг, и что-то как будто вынимает» (11; 204). Игра могла обернуться трагедией, тем более, что на новом витке развития карнавального действия появляется еще один новоявленный участник событий, явно подстрекающий к продолжению фарса и тайно мечтающий превратить игру в реальность. При появлении разбойника Марта громко закричала, но, возможно, узнав в нападавшем мужа и увидев характерный жест инженера, «завопила еще пуще», «улюлюкая», «подстрекая». Своим криком Марта явно провоцировала инженера, пытаясь воспользоваться удачной ситуацией. Марта играть по-настоящему, весело и беззаботно отдаваясь игровой атмосфере, не умеет. Но расчетливый и практичный ум сразу подсказывает ей выгодную сделку со счастливой случайностью, которую можно заставить служить для исполнения тайных желаний. Игровое чутье подсказывает Драйеру четкие нормы и правила: игра должна кончиться именно в тот момент, когда ее начинают воспринимать с опасной серьезностью. На помощь заигравшемуся герою приходит Франц, срывающий маску, и «король», принявший на себя карнавальную личину, вновь превращается в главную фигуру распорядителя праздника, удерживая тем самым свои социальные позиции, нормы и отношения реальной жизни. В более завуалированном виде в данной сцене происходит не просто движение отдельных людей и событий, а раскрываются бытийные отношения, показывающие сущностные проблемы жизни: любовь, ненависть, лукавство, жизненная сила, мудрость, раскрывающие саму суть жизни. Маскарад, устроенный Драйером, символичен, его смысл в готовности и желании обновлений и перемен в жизни. Герой Набокова жаждет попробовать себя в ином через изменение внешней формы, открывая для себя личностную необходимость этого иного. Желание наладить качественно иные отношения с Мартой, необходимость утверждения собственного «я», человека играющего и умеющего получать наслаждение от игры, являются тайной мотивацией поведенческой линии Драйера, который всячески опровергает отводимую ему роль покойника, ничуть не догадываясь о ней. Разбойничья маска героя выдает и желание выйти за пределы этикетных приличий и ритуалов супружеской жизни, достучаться до Марты, грубо встряхнув, заставить принять его игру, его чувства, ради которых он готов пожертвовать многим. Марта не желает подыгрывать мужу, более того, она поворачивает игру такой опасной гранью, неожиданной для «короля», что последний спасается бегством, но, вопреки правилам, после окончания карнавального действия. На следующее утро сбросивший шутовской наряд «король» едет на лыжный курорт, чтобы вновь погрузиться в атмосферу лыжных гонок, спортивного азарта. При этом герой не лишает себя удовольствия еще раз затеять игру в ва-банк с Мартой. Если во время вечеринки свой «напускной» ужас жена умно сопроводила холодным равнодушием, повернувшись к мужу спиной, пожав плечом и спокойно подойдя к замиравшему граммофону, то как она встретит его после двухнедельной разлуки: «Хотелось ему ненароком явиться домой, чтобы душу Марты застать врасплох, посмотреть, - улыбнется ли она от неожиданности, или встретит его так же плавно и немного хмуро, как если б была предупреждена об его приезде» (11; 209). Однако в душу Марты «королю», несмотря на всю его проницательность и неожиданность приезда, заглянуть так и не удалось, хотя на мгновение он узнал «совершенное счастье». На лице жены была «изумительная улыбка»: «Он только не заметил, что глядит-то она не на него, а как-то через его голову, улыбаясь не ему, а доброй, умной судьбе, которая так просто и честно предотвратила нелепейшую катастрофу» (11; 213). Следует заметить, что идею карнавализации сцены праздника подчеркивает художественная детализация: рождественская елка, стоявшая в углу комнаты, была равнодушна к своему шутовскому наряду, в то время как развеселившиеся гости с восторгом принимают участие в распределении карнавальных масок - личин. Толстый Вилли с упоением принимает увенчавший его голову шутовской золотой бумажный колпак, сам хозяин дома встречает публику в поварском колпаке, который затем сменит на лохмотья и маску разбойника. Розовый инженер берет на себя миссию хроникера, рассказывающего о грабителях в масках, а его инстинктивный жест в момент появления разбойника можно расценивать как смену ролевого поведения: от рассказчика, повествующего о событиях, до готового дать отпор защитника – рыцаря. Но на эту роль защитника и преданного пажа претендует Франц, который сдергивает маску с лица разбойника и разоблачает розыгрыш короля. В это время королева пытается разыграть свою партию, подстрекая розового инженера довести свое мануальное движение до логического конца. Холодая неприступность Марты и ее притворный ужас оказывается тоже маской - личиной: «королева» не только видела исчезновение мужа, но и физически ощутила его отсутствие: легче стало дышать. Под маской Марты скрывались не только расчетливая и находчивая натура, но и острое чувство ненависти к «шутнику», который одним своим существованием мешает ей дышать и жить. Таким образом, в данной сцене главные персонажи немного актеры, и на сцене жизни пытаются переиграть друг друга, соревнуясь в попытке отвоевать свое жизненное пространство для самореализации. Однако характер индивидуальной игры на праздничном карнавале личин - масок существенно разнится: от самозабвенно играющего Драйера, выбравшего удачный момент для драматизации, обострения безудержного веселья и наивно-радостного, по-детски восторженного Вилли, которому доверили тайную роль игрового сообщника, до холодно-расчетливой Марты, которая пытается использовать игровую ситуацию для устранения мужа. Игра из-за накала страстей едва не вышла из-под контроля, грозя превратить обычное существование и обычное веселье средних буржуа в трагический фарс. Актерство, перенесенное в жизнь, оборачивается серьезной провокацией, ибо актер в жизни не ограничен никакими нравственными канонами и запретами, а под обманчивой лживой маской бьется совсем иная жизнь, опасные страсти. Там, где личина подменяет подлинное человеческое лицо, нет места ни закону, ни нравственности, ни справедливости. Способностью «подыгрывать» в художественном мире Набокова обладают художественные детали - вещи, предметы. В их художественном воспроизведении Набоков весьма «пластичен». Понятие «пластичности» художественного письма в свое время определил Чехов по отношению к Горькому, пояснив свою мысль так: «…когда изображаете вещь, то видите ее и ощупываете руками» (Из письма А.П. Чехова к М. Горькому от 3 дек.1898 г. Ялта). Набоков стремится дать читателю ощущение вещи, а через него представление о предметном мире, занимающем значительное место не только в характерологии набоковских героев, но и в художественном пространстве набоковской прозы. Включенные в игру, они приобретают способность к персонификации через одушевление, тем самым создается еще один пласт игровой реальности, окружающей главных набоковских героев, играющих в жизнь как в детектив. Театральность и вместе с тем твердую опору совершающимся «вдруг» в мире Набокова событиям придают вещи, которыми окружены герои романа. Искусственная плотность вещественного мира, заполнившая художественное пространство романа, создает ощущение странной фантасмагории. Она тасует, словно карточную колоду, предметы, похожие на людей, и людей, ставших предметами. Вещи в этом загадочном мире вызывают ощущение самодостаточности и способны обходиться без человека, в то время как для последнего предметный мир – естественная среда обитания, исчезновение которой грозит гибелью. Вещи научились играть в людей, вырабатывая свою ценностную иерархию, символику и чувственный мир. Проявляют склонность к игре, например, старые кресла, которые «с комическим радушием» протягивают к гостям «свои плюшевые руки» ( 11; 119), знаменитая качалка « с подушкой для затылка в виде зеленой колбасы, на которой было вышито: «только четверть часика» (11;137). Свою незаменимость осознают «официально чистенькие гребешок и щетка», лежащие на столике в прихожей. Полны достоинства «фарфоровые звери, которых никто не любил, разноцветные подушки, к которым никогда еще не прильнула человеческая щека, альбомы, - дорогие, художественные книжки, которые раскрывал разве только самый скучный, самый застенчивый гость» (11; 135-136 ). Вещи одухотворены лишь при одном условии – ими пользуется человек, согревая их теплом своих рук, вниманием и бережным отношением. Но есть предметы, лишенные возможности ежедневного соприкосновения с человеком. Тогда это просто вещи-экспонаты, демонстрирующие честолюбивые притязания своих хозяев. Таинственна власть вещей над человеком: легким зеленым платьем может быть «сдержана и окружена» душа героини (11; 140). Вещь может стать ценностью высшего порядка и являть собою сфокусированную эмоциональную энергию – важную характерологическую составляющую героя, способную приоткрыть тайну его внутреннего «я». Например, забытый матерью в комнате сына шерстяной платок, который тот всю ночь обнимал и орошал слезами, позволяет сделать вывод о неразделенной сыновней любви, сильной эмоциональной зависимости от матери (материнский комплекс). Этот штрих в поведении героя при холодноватой сцене прощания на вокзале вкупе с другими сведениями о сложных взаимоотношениях матери и сына объясняют многое в поведении Франца, в его отношениях с любимой женщиной, в произошедшей личностной деформации. Именно скрытый материнский комплекс героя является причиной характерных любовных отношений Марты и юного «валета», весьма напоминающих психологическую пару: властная мать – послушный сын. Франц с большой радостью и облегчением принимает все заботы о нем, платя за «материнское» усердие своей любовницы послушанием, преданностью, готовностью быть послушной игрушкой в руках более опытного кукловода. Избавившись от материнской зависимости, Франц быстро находит себе психологическую замену, чтобы вновь остаться в привычной для себя роли - ведомой марионетки. |
