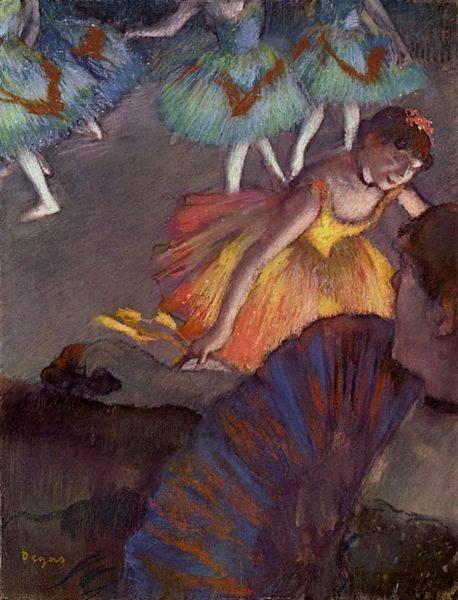ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ
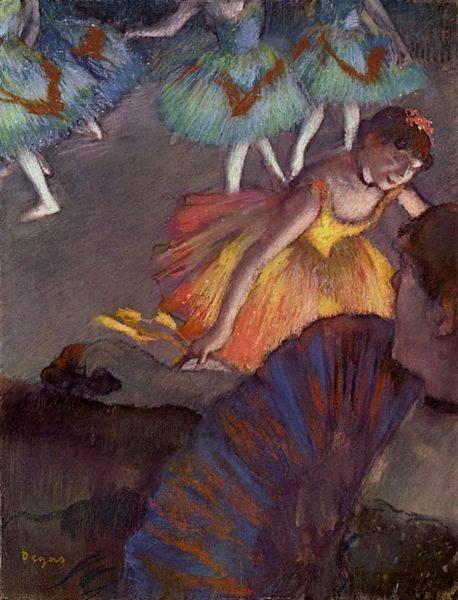
Хореография,1* (1*Туано Арбо, каноник Лангрский, первым издал в1588 году трактат, озаглавленный им «Оркезография»: под каждой нотой мелодии он записывал соответствующие движения и танцевальные па. Затем Бошан придал хореографии ту форму, усовершенствовав остроумное начинание Туано Арбо; он придумал способ записывать па с помощью которым придавал различное значение и смысл. Указом парламента он был объявлен изобретателем этого искусства. Фейе весьма увлекся этим вопросом и посвятил несколько трудов.) о которой вы желаете услышать от меня, сударь, есть искусство записывать танцы с помощью различных знаков, наподобие того, как музыку записывают с помощью знаков или букв, обозначающих названия нот, с той лишь разницей, что хороший музыкант прочтет двести тактов за минуту, в то время как превосходный хореограф не расшифрует двухсот тактов и за два часа. Обозначения эти легко понять, они быстро заучиваются, но так же быстро забываются. Этот особый вид записи, принятый в нашем искусстве, и которого, возможно, не знали древние но, необходим на первых играх его развития, когда танец еще был подчинен строгим правилам. Балетмейстеры посылали друг другу небольшие контрдансы и выигрышные и трудные фрагменты, такие, как «Анжуйский менуэт», «Бретань», «Новобрачная», паспье, не считая всяких «Испанских фолий», паван, «Курантов, «Бурре Ахилла» и аллеманд. Передвижение исполнителей или фигуры, которые они образовывали, были намечены линиями, па обозначены посредством нанесенных на эти линии условных значков, ритм или размер указывались небольшими вертикально расположенными линиями, па, уделявшими и определявшими такты. Мелодия, на которую сочинялись эти па, записывалась ногами сверху страницы так, что восемь тактов хореографии соответствовали восьми тактам музыки. С помощью подобной записи можно было с большим трудом «прочитать» танец, держа книгу повернутой определенным образом и никогда не меняя ее положения. Вот, сударь, что в былые времена представляла собой хореография. Танец был простым и состоял из небольшого количества элементов, а потому запись его была легко доступна и было нетрудно научиться разбирать ее. Но в наши дни па стал сложными — они удвоились и утроились, сочетания их стали неисчислимыми. Посему выражающих письменно стало чрезвычайно трудно, а ей труднее расшифровывать. К тому же этот метод записи весьма несовершенен: точно указывают одни только движения ног, а движения рук, ее и обозначены, то при этом не отмечается ни положение, ни их рисунок, не показаны также положение корпуса, ни повороты, ни противопоставления головы, ни различные манеры, держа корпус благородно и непринужденно в соответствии с тем или иным танцем. Поэтому я считаю этот метод бесполезным, поскольку он не способствует совершенствованию нашего искусства. Позволю себе спросить тех, кто кичится своей непоколебимой приверженностью хореографии, быть может, станет возмущаться мною: какую пользу принесла она им? Возвысила ли она их талант. Придала ли блеск их репутации? И они ответят мне, если только будут искренни, что хореография отнюдь не помогла им подняться выше того, чем они были прежде, но зато они владеют теперь всем тем, что было создано прекрасного в области танца за последние полвека. Что ж,— отвечу я им,— храните эти драгоценные сведения. В вашей коллекции собраны все те па, котором сохранилось всего несколько разрозненных штрихов, нанесенных рукой различных мастеров. Я изучал некогда хореографию, сударь,— и позабыл ее; когда б я счел ее полезной для моего совершенствования, я изучил бы ее вновь. Лучшие танцовщики и самые прославленные балетмейстеры пренебрегают хореографией, ибо она ничем не может помочь им. А между тем в какой-то мере она могла бы приносить пользу, и я намерен доказать вам это после того, как расскажу об одном проекте, возникшем у меня на основе некоторых размышлений об Академии танца, учреждение коей, по всей видимости, преследовало одно лишь цель — предотвратить падение нашего искусства и содействовать скорейшему его развитию. Танец и балет, без сомнения, обрели бы новую жизнь, когда бы обычаи, насажденные духом страха и зависти, не преграждали бы некоторым образом пути к славе всем тем, кто с успехом мог бы подвизаться на столичной сцене, убедительно доказывая новизной своей манеры, что талант рождаются повсеместно и что в провинции они растут и развиваются не хуже, чем во всяко ином месте. Не подумайте, сударь, что я хочу опорочить тех танцовщиков, которым протекция или, если угодно, счастливая звезда помогла удостоиться места, и без того достойного их таланта. Не себялюбие, а единственно лишь любовь к искусству движет мной и одушевляет меня; хочу надеяться, что никого не оскорблю, если выражу пожелание, чтобы балету были предоставлены те же преимущества, что и драматическому искусству. Раз провинциальные актеры не пользуются правом дебюта в Париже? Разве не дана им возможность играть здесь три различные роли по собственному выбору? Да, разумеется,— ответят мне,— но их всегда после этого принимают на службу. Ах, какое это может иметь значение для того, кто удостоился успеха и всеобщего одобрения? Если актер силой своего таланта восторжествовал над театральными кознями и, не опускаясь до заигрывания с публикой, снискал себе похвалы просвещенной ее части, он уже с лихвой вознагражден за неудачу с местом, о котором должен меньше сожалеть, зная, что имеет на него все права. Не подлежит сомнению, что у нас никогда не было бы стольких знаменитых художников во всех жанрах, когда бы не дух соревнования, царящий в Академии. Именно здесь, сударь, и может проявить себя без всяких опасений подлинный талант; он получит именно то место, которое принадлежит ему по праву; талантливая кисть в галерее Лувра неизменно оказывалась сильнее покровительства, вынужденного умолкнуть перед подлинным дарованием. Если балеты суть живые картины, которые должны сочетать в себе все чары живописи, почему бы не позволить каждому из наших балетмейстеров показать на сцене Оперы по три образца своего искусства: один, заимствованный из истории, другой — из мифологии, третий — плод собственного воображения. В случае успеха балетмейстеров принимали бы в действительные члены Академии или причисляли к этому ученому обществу. Подобное поощрение, так же как и установление такого порядка, несомненно, породило бы соревнование — драгоценную пружину всех искусств; поощряемый ожиданием этой награды,— какой бы призрачной она ни была,— балет стремительно вознесся бы до высот подлинного искусства и занял бы свое место в ряду других. К тому же, став более многочисленной, Академия эта, быть, может, достигла бы большего; рачительность провинциалов поощряла бы и ее собственную.. Танцовщики, допущенные в Академию, служили бы своего рода стрекалом для действительных ее членов. Спокойная жизнь провинции облегчала бы тем, кто там подвизается, возможность предаваться размышлениям и писать о своем искусстве. Они посылали бы в Академию трактаты, нередко поучительные. Академия, в свою очередь, вынуждена была бы писать на них ответы, и это литературное общение, представив нас в новом свете, вывело бы ее мало-помалу из состояния косности и заставило бы о ней говорить. Молодые люди, предающиеся танцу механически и лишенные каких-либо общих взглядов на вещи, непременно пополнили бы свое образование; они познакомились бы с трудностями своего искусства, им захотелось бы преодолевать их, и, видя перед собой надежный путь, они не смогли бы уже заблудиться и свернуть с него. Уверяют, сударь, будто наша Академия представляет собой обитель молчания и гробницу, где покоятся таланты. Сетуют, что она не издает трудов — ни хороших, ни плохих, ни посредственных, ни сносных, ни скучных; упрекают ее за то, что она вовсе отклонилась от своего первоначального назначения, собирается редко и случайно и совершенно равнодушна к успехам искусства, служению которому посвятила себя, равно как вопросам просвещения танцовщиков и подготовки учеников. То, что я здесь предлагаю, безусловно, заставило бы умолкнуть клевету и злословие и вернуло бы этому учреждению то высокое уважение и славное имя, в коих многие теперь ему отказывают, быть может, и несправедливо. Прибавлю к этому, что если бы Академия решилась брать учеников, это весьма умножило бы ее заслуги; по крайней мере, она лишила бы возможности многих учителей танцев, ныне притязающих, на репетицию, отнюдь ими не заслуженную, приписывают себе успехи учеников, а ответственность за их недостатки возлагать на их первых наставников. Этот танцовщик,— говорят они,— не получил хороших основ; если у него есть недостатки,— я тут ни при чем. Я пытался сделать все—вплоть до невозможного. А что до его достоинств — это уж дело моих рук». Вот как ловко, сударь, избегая тягостей ремесла наставника, иные готовят оправдание на случай критики и обеспечивают себе авторитет и доверие на случай рукоплесканий. Согласитесь, однако, что совершенство произведения отчасти зависит от того, каков первоначальный набросок — ведь ученик, впервые выступающий перед публикой, это своего рода картина, выставляемая художником в Салоне: все восторгаются и рукоплещут ей или же все ее порицают и хулят. Представьте же себе, какую выгоду можно извлечь из притока талантливых танцовщиков, обучавшихся в провинции, если приписывать себе развитие их талантов, приобретенных ими вовсе не здесь! Для этого требуется лишь па первых порах повсюду кричать, что ученика этого дурно обучали, что прежний учитель совершенно погубил его и вам стоит неимоверного труда отучить его от этой провинциальной манеры и исправить вопиющие его недостатки. Затем следует говорить, что ученик отличается усердием, что он восприимчив к расточаемым вами заботам, что он трудится день и ночь, а по прошествии месяца долбиться для него дебюта. «Пойдемте смотреть, как танцует этот юноша,— скажут тогда.— Он ученик такого-то и еще месяц назад был отвратителен». «Да, да,— ответит другой,— он был просто невыносим, хуже быть нельзя». Ученик появляется на сцене — его награждают рукоплесканиями, причем он начинает танцевать, но, оказывается он движется с грацией, рисунок танца его изящен, позы красивы, па точны, он блистателен в прыжках стремителен и отчетлив в партерном танце. Что за приятный сюрприз! Все кричат, что чудо: «Какой поразительный учитель! Выучил танцовщика за двадцать уроков! Ничего прекрасней на свет еще не видывал! Таланты нашего века поистине достойны изумления!» Балетмейстер принимает все эти похвалы подкупающей скромностью, в то время как ученик, ослепленный своим успехом, ошалев от рукоплесканий, являет пример самой черной неблагодарности: он забывает даже имя того, кому всем обязан. В душе его не осталось и следа благодарности к первому своему учителю. Он нагло уверяет, будто ровно ничего не знал,- как будто может судить о самом себе—и воскуривает фимиам шарлатану, которому, как он полагает, обязан своим успехом. Но на этом дело не кончается. Каждым своим появлением на сцене ученик все более пленяет публику и вскоре возбуждает в своем учителе зависть и недовольство. И тогда он отказывается давать ученику уроки, ибо танцует в том же жанре и опасается, как бы ученик не превзошел его и не вытеснил из сердца публики. Как это мелко! Да разве это не высокая честь для искусного артиста — воспитать артиста, еще более искусного? Разве он умаляет свое достоинство, вредит своей репутации, заставляя собственный талант возродиться в таланте своего ученика? Эх, сударь, неужели публика не была бы благодарна Желлиоту, если бы ему удалось обучить артиста, равного себе!? Разве от этого перестал бы он быть Желлиотом? Нет, конечно, подобный страх никогда не возникает у человека истинных достоинств и пугает одну только посредственность. Вернемся, однако, к Академии танца. Сколько превосходных трудов, сколько новых наблюдений, сколько поучительных трактатов могло бы выйти отсюда, когда бы представленные ее вниманию сочинения побуждали бы членов ее к соревнованию. Следовало бы пожелать, сударь, чтобы члены Академии, и даже вся Академия в полном своем составе, писали бы для Энциклопедии все статьи, кающиеся искусства танца. Просвещенный артист лучше выполнил бы эту задачу, чем это сделал г-н де Каюзак. Историческая часть могла остаться за ним, но часть, трактующая о технике танца, по праву, мне кажется, должна была принадлежать перу танцовщиков. Они просветили бы в этой области, как публику, так и артистов и, прославляя свое искусство, сами прославились бы. Они могли бы запечатлеть на отдельных гравюрах хотя бы некоторые образцы превосходных творении балета, которые так часто появляются в Париже, -гравюрах, ничем не напоминающих те хореографические таблицы, по которым, как я уже говорил, нельзя или мало чему можно научиться. Орфей нашего века, украшение оперной сцены и самый знаменитый певец, певший когда-либо в Опере. С чарующим голосом он сочетал восхитительный вкус и замечательную выразительность. Он пел так же хорошо, как и играл на сцене,— талант, редко встречающийся во Франции. Представьте себе, в самом деле, что Академия привлекала бы к работе двух великих мастеров — г-на Буше и г-на Кошена; что один какой-нибудь член Академии сделал бы чертежи, на коих подробно обозначены были бы все переходы и все па танца, а второй, более других владеющий пером, объяснил бы словами все то, что геометрический чертеж не способен представить достаточно отчетливо, не преминув при этом обрисовать впечатление, производимое той или иной одушевленной картиной, той или иной комбинацией; что он подробно разобрал бы все па в их последовательности, коснулся бы положений корпуса, отдельных поз, ничего не пропуская из того, что может объяснить и сделать внятной немую игру, выразительность мимики и различные душевные состояния, отражаемые в чертах лица; и что после всего этого Буше искусной рукой нарисовал бы группы и наиболее интересные моменты, а г-н Кошен своим смелым резцом размножил бы эти наброски Буше. Согласитесь, сударь, что, пользуясь помощью сих двух знаменитых людей, наша Академия без труда сохранила бы для потомства достойные дела искуснейших балетмейстеров и танцовщиков, чьи имена мы едва помним и которые, когда они покидают сцену, оставляют по себе лишь смутное воспоминание о талантах, некогда вызывавших наше восхищение. Тогда хореография стала бы подлинно интересной. Геометрический план, вид из зрительного зала, точное описание этих проекций — все отчетливо явилось бы взору, давая ясное представление о положениях тела, выражении лица, рисунке рук, позициях ног, изяществе одежды, соответствии месту и эпохе; одним словом, подобный труд, да еще поддержанный карандашом и резцом двух знаменитых мастеров, стал бы неисчерпаемым источником, и это был бы, на мой взгляд, своего рода архив, хранилище всего того, что наше искусство может представить блистательного, захватывающего и прекрасного. Ну и проект! — скажете вы.— Какие огромные расходы! И какая это была бы чудовищная по размерам книга! Ответить на это нетрудно. Во-первых, люди, которых я предлагаю для этой цели, не какие-нибудь любители наживы, а два мастера, способные прийти на помощь Академии с тем истинным бескорыстием, которое является отличительным признаком и доказательством подлинного таланта; во-вторых, усердию их должны поручаться только те балеты, которые действительно могут быть достойны их усилий, иными словами, только то, что и в самом деле превосходно, исполнено огня и гения — те редкостные и совершенно оригинальные творения, что сами по себе способны служить источником вдохновения. Таким образом, мы избежали бы лишних расходов, а гравюр можно было бы изготовить совсем немного. Никто ревнивее меня не печется о славе нашей Академии, которая при этих условиях могла бы стать действительно полезной. О, почему не могу я, сударь, увидеть проект этот уже осуществленным! Может ли быть более верное средство увековечить и саму Академию и тех танцовщиков, которых она захочет прославить? Может ли быть более верное средство воспарить к бессмертию, чем позаимствовать крылья у двух художников, коим сама судьба предназначила запечатлеть в храме памяти и собственные свои имена и имена тех, кого они пожелают обессмертить? Подобное предприятие словно создано для них, и я смею надеяться, что члены Академии не могли бы найти лучших исполнителей, когда бы они пожелали указать им те высокие образцы балетного искусства, которыми несомненно изобилует столица это средоточие и место свидания всех талантов и которые я не дерзаю указать сам. Вот чем, на мой взгляд, следовало бы, сударь заменить хореографию, искусство, сделавшееся, в наши дни столь сложным, что глаза и разум уж' не в силах разобраться в нем, ибо то, что некогда, представляло собой лишь азбуку, незаметно превратилось в какую-то тарабарщину. Те усовершенствования, которые были внесены в системе знаков, обозначающих па и движения, лишь окончательно запутали их и сделали совершенно непонятными. Чем прекрасней будет становиться танец, тем больше будет увеличиваться число знаков — и тем недоступнее сделается эта системе. Можете судить об этом сами, сударь, прочитав статью «Хореография» в Энциклопедии. Вы, несомненно, сочтете, что она представляет собою некую алгебру танцовщиков, и я весьма опасаюсь что приложенные к ней рисунки отнюдь не проливают свет на темные места этого ученого трактата о танце. Пусть так,— быть может, ответите вы мне, - говорят, даже прославленный Блонди замрешь своим ученикам изучать хореографию. Но, признайтесь, по крайней мере, что она необходима балетмейстерам. Нет, сударь. Ошибается тот, кто думает, будто хороший балетмейстер может составлять чертежи и сочинять па балета, греясь его камина. Тот, кто работает, подобным образом, никогда ничего не создаст, кроме самых .их поделок. Не с пером в руке приводят |в движение кордебалет. Сцена—вот Парнас искусного сочинителя балета. Здесь ему сразу же приходит в голову множество новых идей. Все здесь связывается воедино, все одушевляется, все оказывается как бы начерченным огненными штрихами. Каждая картина или положение сами собой ведут к следующим, фигуры танца следуют одна за другой столь же непринужденно, сколь и грациозно; задуманный эффект сразу же становится ощутимым, фигура, казавшаяся изящной на бумаге будучи перенесена на сцену, теряет свою прелесть, другая, которая кажется пленительной зрителю, видящему ее сверху, выглядит совсем иначе из ложи первого яруса или партера. Стало быть, сочиняя балет, следует равняться на места, находящиеся наименее высоко, ибо, если рисунок, группа, производят впечатление из партера, они, конечно, не потеряют своего эффекта, где бы вы ни находились в зале. Вы видите в балете, как артисты движутся вперед и назад, замирают на месте, отступают в глубину сцены, совершают различные эволюции, разбиваются на отдельные группы или образуют одну общую. Но если балетмейстер не умеет заставить двигаться все элементы этой сложной машины в надлежащем направлении, если он не способен с самого начала предвидеть невыгодное впечатление, которое произведет та или иная эволюция, если он не обладает искусством наивыгоднейшим образом использовать свободное пространство сцены и не сообразует движения артистов с большими или меньшими размерами подмостков, если мизансцены неудач» намеченные движения неуместны или невыполнимы, передвижения групп слишком стремительно или излишне замедленны, если направление указано неверно, если отсутствует чувство меры и ощущение целого — словом, если все отдельны части не слажены, если исходный момент передвижений выбран ошибочно, тогда взору вашему предстанет одна лишь путаница, смятение и неразбериха, тогда все станет сталкиваться между собой и одно будет вредить другому; тогда в балете, не будет и не может быть ни отчетливости, ни согласованности, ни точности, осмеяние и свистки зрителей—вот справедливая награда за столь безобразное и неслаженное творение. Постановка и ход большого балета, сударь, требует от балетмейстера и знаний, и ума, и вкуса, и тонкости, и безошибочного чутья, и мудрого предвидения, и верного глаза. А всех этих качеств не приобретешь, записывая или пытаясь прочитать танец с помощью хореографии. Мгновенно закрепленное впечатление — вот единственное, что предок разделяет композицию. Все искусство состоит в том, чтобы уловить его и удачно им воспользоваться. Между тем есть люди, слывущие балетмейстерами, которые ставят свои балеты, кое-как перекраивая чужие, с помощью тетрадки, где записаны условные значки, служащие им своего рода хореографией (ибо способ рисовать переходы от одной фигуры к другой всегда остается одним и тем же — меняется лишь цвет карандаша). Но нет ничего более пресного и вялого, чем балет, сочиненный на бумаге: в нем всегда чувствуется труд напряженность. Забавно представить себе балетмейстера Театра Оперы, углубившегося в in folio ломающего себе голову над возобновлением танцев в «Галантной Индии» или другой какой-нибудь опере со множеством танцев. Сколько различных переходов понадобилось бы ему записать для балета с большим количеством участников. К двадцати четырем путям передвижений, то простых, то сложных, прибавьте обозначения всех ложных па, и вы получите, сударь, манускрипт, весьма ученый, но представляющий собой такую «впутанную картину всяких линий, черточек, значков и букв, что у вас зарябит в глазах, и весь свет познания, который вы рассчитывали извлечь из них, будет, так сказать, поглощен тем туманом, который распространяет подобная запись. Не думайте, кроме того, будто балетмейстер, некогда сочинявший для какой-нибудь оперы танцы, понравившиеся публике, обязан, во что бы то ни стало помнить их во всех подробностях, возобновляя спустя пять-шесть лет. От того, что он не станет прибегать к старым записям, он лишь лучше сочинит свой балет заново и может даже исправить ошибки, которые, возможно, допускал прежде (ведь воспоминание о совершенной ошибке стирается из памяти труднее всего). А если он и возьмет в руки карандаш, то для того лишь, чтобы набросать геометрический чертеж основных форм и наиболее значительных фигур. Он, безусловно, не станет чертить всех тех переходов, которые привели его тогда к этим формам и превращениям одной фигуры в другую, и не будет терять время на записывание па и поз, бывших некогда удачными в этой картине. Да, сударь, хореография убивает воображение, ослабляет, притупляет прибегающего к ней балетмейстера; он станет тяжеловесным, холодным, неспособным к естественной выдумке. Из творца, которым он был до этого или мог бы быть, он превращается в ил автора. Он не создает ничего нового, и все труды его сводятся к тому, что он уродует чужие произведения. Метод этот приводит ум в какое-то оцепенение, погружает его в своего рода летаргию и я знавал нескольких балетмейстеров, лишившихся своей хорошей репутации только потому затеряли где-то свои тетрадки и, не имея перед глазами записей, некогда сочиненных другими, не в состоянии уже были привести в движение свой кордебалет. Повторяю еще раз, сударь, и настаиваю этом: нет ничего гибельнее метода, который сужает наши замыслы или же вовсе убивает их, с только мы не умеем пользоваться им осторожно избегая всех таящихся в нем опасностей. Пылкость, вкус, воображение, знания — вот что следует предпочесть хореографии; вот, сударь, откуда рождаются новые па, фигуры, картины, позы; неисчерпаемый источник того безмерного разнообразия, которое отличает истинного артист; хореографа.
|
 Скачать 1.62 Mb.
Скачать 1.62 Mb.