Вызовы России. Вызовы недонаселенности
 Скачать 0.72 Mb. Скачать 0.72 Mb.
|
|
Концентрация большей части населения страны на сравнительно небольшой части ее территории и запустение всего остального пространства — это несомненный вызов. Сейчас 27% населения России сосредоточено менее чем на 4% ее территории (ЦФО). Смещение населения на запад страны отражает конкуренцию регионов за людские ресурсы в условиях их явного дефицита. Все это заставляет еще раз задуматься о вызове недонаселенности России, о котором говорилось выше. Миграционные потери многих территорий сглаживает прирост за счет долговременной международной миграции, но он не так значителен, как потери во внутрироссийской миграции. Да и этот поток в регионах к востоку от Красноярского края невелик: международные мигранты хотя и распределяются по территории страны более равномерно, все же предпочитают регионы Европейской России, юг Урала и Западной Сибири. Предпринимаемые (декларативные) попытки развернуть направления миграционных потоков «в нужные стороны» и повысить общий уровень пространственной мобильности населения не приводят к значимым результатам. Для масштабных переселенческих процессов нет ни людских, ни финансовых ресурсов. Направления миграции в России зависят от концентрации ресурсов в Москве и нескольких других крупнейших городах, и если они и могут быть изменены, то только при условии очень серьезной корректировки экономической (в т. ч. региональной) политики. Во многих геополитически и стратегически важных регионах страны нет в должном количестве рабочих мест, способных привлечь дополнительные рабочие руки. Помимо этого, разные части страны отличает разная инфраструктурная обустроенность, для сглаживания существующих контрастов необходимы гигантские финансовые средства. Миграционные потоки усиливают концентрацию населения в крупных и крупнейших городах с населением более 1 млн человек. В результате миграции в последние годы между наиболее плотно заселенными (2% общей площади) и наиболее слабозаселенными (более 90% площади) территориями страны перераспределяются ежегодно около 0,5 млн человек. Продолжают терять население сельская местность, малые и средние города. При этом значительное перераспределение населения происходит не между, а в пределах регионов — в региональные столицы и их пригороды из остальной части региона, внутренней периферии. В сельской местности часть юридически числящегося населения на самом деле фактически не проживают в селе. В миграции в основном принимает участие молодое население в возрасте 17–35 лет (наиболее активно — в возрасте поступления в вузы), в результате этого население основных притягательных для мигрантов центров успешнее противостоит старению, а экономика получает дополнительные рабочие руки. Напротив, на территориях оттока населения миграция усиливает старение и депопуляцию, экономика не получает стимулов к развитию, ведь уезжают наиболее активные. В местах длительной, продолжающейся многие десятилетия миграционной убыли не только деградирует население, но и разрушается в силу невостребованности инфраструктура (прежде всего — социальная и транспортная), что создает стимулы к дальнейшему выезду населения. Подобные процессы происходят не только на восточных окраинах, но и повсюду в староосвоенных регионах центра страны, на значительном удалении от крупных городов. Реосвоение и поддержание многих сельских населенных пунктов происходит только силами дачников и только на летний сезон4. Для молодежи проблема стоит не столько в выезде из своего поселка (села, моногорода), сколько в бесперспективности возвращения в него. Узкий рынок труда, низкая заработная плата, отсутствие возможностей для развития делают возвращение бесперспективным и во многих случаях — свидетельством краха личных амбиций. ВЫЗОВЫ ИММИГРАЦИИ Масштабные международные миграции — явление для России новое и пока недостаточно осмысленное. Россия никогда не была страной иммиграции. В советское время она долгое время выступала, скорее, как страна эмиграции в том смысле, что имела отрицательное сальдо в миграционном обмене с другими бывшими республиками СССР. Положение стало меняться с середины 1970-х годов, когда число въезжающих в РСФСР стало превышать число выезжающих. За 16 лет (1975–1990) миграционный прирост населения России (порядка 2,7 млн человек) сравнялся с миграционной убылью за предшествующие 20 лет (1955–1974). Некоторую часть миграционного притока тех лет составляли коренные жители союзных республик. Но по абсолютным размерам эта часть притока была невелика, в основном же он состоял из «возвратных» мигрантов, т. е. россиян, ранее выехавших из России, и их потомков. Возвратная миграция резко усилилась после распада СССР, именно она определила масштабы миграционного всплеска 1990-х годов. Пик иммиграции пришелся на 1994 г., всего за 1992–2000 гг. оцениваемый Росстатом миграционный прирост составил 4,5 млн человек, затем его масштабы стали сокращаться. О том, что это была возвратная миграция, свидетельствует этнический состав мигрантов. Он учитывался до 2007 г., по данным этого учета, за 1992–2007 гг. свыше 80% миграционного прироста годы составляли русские, другие народы России, а также украинцы и белорусы (рис. 28). Достоверная оценка масштабов миграционного притока в Россию затруднена тем, что официальные критерии того, кого следует относить к мигрантам, и соответственно учет их Росстатом неоднократно менялись, что не позволяет построить надежные ряды сопоставимых данных. Не способствуют пониманию масштабов иммиграции в Россию и широко тиражируемые — со ссылкой на международные организации — утверждения, подобные сравнительно недавнему сообщению ТАСС: «Россия занимает третье место в мире по числу мигрантов после США и Германии»10. Международные организации действительно дают такие оценки, но при этом надо учитывать, что эти оценки относятся к так называемому накопленному числу мигрантов (migrant stock), т. е. к общему числу людей, живущих не в той стране, в которой они родились. В публикациях ООН разъясняется, что большое число мигрантов в России «обусловлено переклассификацией лиц, ко- торые переезжали в СССР до 1990 г. в качестве внутренних мигрантов и которые стали международными мигрантами в момент распада, никуда не перемещаясь в это время»11. Соответственно, все жители России, родившиеся в советское время за пределами РСФСР и указавшие на это при переписи населения, считаются мигрантами. Рисунок 25 - Этнический состав учтенного миграционного прироста населения Россииза 1992–2007 гг. 1992–2007  9,5% 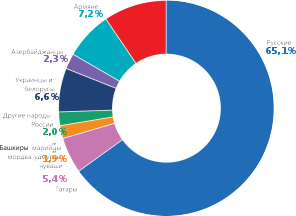 Если же судить по интенсивности текущей миграции, то Россия занимает среди других стран весьма скромное место (рис. 26). Рисунок26 -Коэффициентмиграционногоприроставнекоторыхстранахв2013г. на 1000 чел.  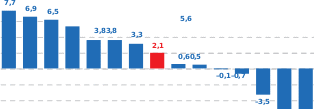 10 8 10 86 4 2 0 –2 –4  –6 –5,4 –5,4 –6 –5,4 –5,4 –8 –8               Оценки текущей миграции основаны на данных о зарегистрированной миграции. Но, наряду с регистрируемой, в постсоветской России получила довольно широкое распространение и нерегистрируемая, или недокументированная, миграция, которую в России называют незаконной, хотя это и не рекомендуется международными организациями. Такая миграция не поддается прямому учету, ее масштабы становятся предметом постоянных спекуляций, будоражащих общественное мнение. Хотя эксперты оценивали число недокументированных мигрантов в начале 2000-х годов в 3-5 млн человек12, высокопоставленные чиновники стали озвучивать свои, гораздо более высокие оценки. Так, в апреле 2002 г. тогдашний руководитель миграционной службы А. Черненко заявил, что за последние 5-6 лет число приезжающих в Россию увеличилось на 10 миллионов человек13. Примерно тогда же руководитель межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования иммиграционного законодательства В. Иванов на парламентских слушаниях в Госдуме сообщил, что только в 2001 году в Россию въехало из стран СНГ и других государств 15 миллионов человек14. По заявлению замминистра внутренних дел А. Чекалина, «общее количество иностранцев из дальнего и ближнего зарубежья, прибывших на территорию России, в 1995 году составило 10,2 миллиона человек, а в 2002-м — уже 23,3 миллиона. Из государств — участников СНГ приехало соответственно 4,9 и 15,4 миллиона». Он же сообщил, что ежегодная разница между числом въехавших в страну и покинувших ее составляет около 2 миллионов человек16. Еще один высокопоставленный чиновник МВД В. Попков распространил информацию о том, что «ежегодно в России оседает 3-3,5 млн незаконных переселенцев. К 2010 году число нелегально проживающих в России лиц может возрасти до 19 млн. человек». Во всех этих заявлениях смешивались без всяких разъяснений постоянная и временная миграция, число прибывших и число осевших в стране граждан других стран, число приезжающих и число единовременно находящихся в стране, число людей и число перемещений (один и тот же человек мог пересечь границу несколько раз) и т. д. Никого не смущал сам порядок называемых цифр. Скажем, определяя число работающих в России мигрантов в 2005 г. в 10-15 млн человек, не учитывали, что при 69 млн человек, занятых тогда в российской экономике, это означало, что нелегальные мигранты составляли от 15 до 22% вовлеченной в экономику России рабочей силы. Постепенно пришло осознание чрезмерности даваемых оценок, и Федеральная миграционная служба стала их снижать. Еще в ноябре 2006 г. В. Путин говорил, что число нелегальных мигрантов может достигать 15 млн человек18, а через месяц, в декабре 2006 г., глава ФМС К. Ромодановский заявил: «По нашим расчетам, сейчас в России находятся 10,2 млн нелегальных мигрантов. Правда, наука с нами спорит и говорит, что у нас не может быть столько нелегалов»19. Буквально через несколько дней он же утверждал, что «в настоящее время в России около 5 миллионов нелегальных мигрантов, в то время как в 2005 году их было более 10 миллионов». Позднее представители ФМС несколько раз называли цифру 5-7 млн, хотя представители других ведомств продолжали говорить о 10 и более миллионах нелегалов21. В феврале 2009 г. заместитель директора ФМС А. Кузнецов сообщил, что в России живут и трудятся нелегально 4 млн иностранцев и лиц без гражданства22. А в апреле 2009 г. К. Ромодановский и вовсе заявил, что, нелегальных мигрантов в России «тысячи, десятки тысяч человек, но это не миллионы. Массовой нелегальщины у нас нет». Скорее всего, эта последняя оценка недокументированной миграции в России была занижена, но нет сомнения, что ее реальные масштабы далеки от тех резко завышенных, ни на чем не основанных величин, которые на протяжении многих лет постоянно вбрасывались в информационное пространство чиновниками и тиражировались средствами массовой информации. Постоянное завышение истинных масштабов миграции в сочетании с предвзятой информацией об этническом и религиозном составе мигрантов, их культурных установках и бытовом поведении привело к формированию негативного отношения общественного мнения к иммиграции, что затрудняет объективную оценку этого важнейшего демографического ресурса и выработку миграционной стратегии, отвечающей интересам России. В чем же в действительности заключаются эти интересы? Опыт последних 25 лет показывает, что иммиграция стала серьезным демографическим ресурсом для нашей страны. Если население России сейчас растет, то почти исключительно за счет иммиграции. И даже когда население убывало (в 1993–2008 гг.), иммиграция на 60% компенсировала его естественную убыль. Население России за эти годы сократилось на 5,2 млн человек, но если бы не было иммиграции, то сокращение составило бы 13,2 млн. Всего же за 1992–2015 гг. миграционный прирост населения России составил около 9 млн человек. Роль иммиграции как основного источника роста населения России сохранится и в будущем, причем масштабы миграционного притока должны быть достаточно большими. Только чтобы перекрыть неизбежную естественную убыль населения и избежать сокращения населения России, может понадобиться принимать 500 тыс. мигрантов в год, а то и более. Эксперты и политики, как правило, связывают вопрос об иммиграции с состоянием рынка труда, и это, безусловно, очень важный аспект проблемы иммиграции. Но он не единственный и даже, может быть, не главный. Выше говорилось об очевидной недонаселенности России, и если рассматривать эту недонаселенность как вызов, то ответом на него может стать только привлечение мигрантов. Это не новый вопрос. В советское время и в общественном мнении, и в официальном дискурсе существовало довольно ясное представление о заинтересованности российских регионов в притоке мигрантов, которые рассматривались и как экономический, и как демографический ресурс. Уже в 1970–1980-е годы много говорилось и писалось о необходимости привлечения в «трудонедостаточные» районы России — Центральную Россию, Сибирь, на Дальний Восток — населения из других частей СССР, особенно из перенаселенной Средней Азии, в ряде документов это было сформулировано как официальная позиция. Например, на XXVI съезде КПСС в 1981 г. говорилось о том, что осложняется «положение с трудовыми ресурсами в ряде мест. Осуществление программ освоения Западной Сибири, зоны БАМа, других мест в азиатской части страны увеличило туда приток населения. И все же люди до сих пор зачастую предпочитают ехать с севера на юг и с востока на запад, хотя рациональное размещение производительных сил требует движения в обратных направлениях. В Средней Азии, в ряде районов Кавказа, наоборот, есть избыток рабочей силы, особенно на селе. А значит, нужно активнее вовлекать население этих мест в освоение новых территорий страны». В целом эта позиция отражала тогдашние взгляды экспертного сообщества, в ней была достаточная широта и определенность, хотя реальный приток представителей народов южных республик (тогда — внутренних мигрантов в пределах СССР) был небольшим. Сейчас положение изменилось коренным образом — и сразу в двух направлениях. С одной стороны, долгожданные мигранты из Средней Азии поехали в Россию, а с другой — они перестали быть долгожданными. И в общественном мнении, и в политическом дискурсе все чаще просматривается желание как можно больше ограничить приток мигрантов из Средней Азии — ее коренного населения, ставшего после завершения «репатриации» выходцев из России основным резервуаром, питающим миграционные потоки в Россию. Между тем объективная ситуация невозможности «осуществления программ освоения Западной Сибири, зоны БАМа, других мест в азиатской части страны», о чем говорилось на партийном съезде 35 лет назад, если и изменилась, то только к худшему. Население этих и без того слабо заселенных регионов сокращается. Уже довольно давно обсуждаются планы увеличения населения Дальнего Востока. Разработана и недавно представлена в правительство концепция демографического развития этого региона, которая предполагает увеличение численности населения дальневосточного региона к 2030 году до 7 млн человек (сейчас — 6,2 млн). Эти планы совершенно не соответствуют наблюдаемым тенденциям. Именно население Дальнего Востока сокращается наиболее быстро. После пика выезда населения, пришедшегося на 1990-е гг., интенсивность оттока в результате внутрироссийской миграции в ДВФО начиная с 2000 г., держится на уровне 4-6 человек на 1000 населения, 30-40 тыс. человек ежегодно (рис. 30), и, несмотря на ожидания скорого прекращения оттока населения, тенденции пока не меняются. Рисунок30 -Миграционныйприрост(убыль)населенияДальневосточногоФО,человек 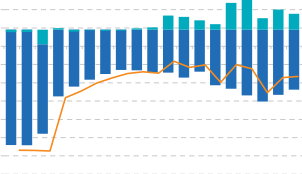 20 000 20 00010 000 0 –10 000 –20 000 –30 000 –40 000 –50 000 –60 000 –70 000 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015    внутрироссийская международная вся миграция внутрироссийская международная вся миграцияВнутренних демографических ресурсов, которые можно было бы перенаправить на Дальний Восток, в России нет, без мигрантов извне и их натурализации решить задачу пополнения его населения невозможно. А в дополнительном населении нуждается не только Дальний Восток — люди нужны и в огромной Сибири. Эта потребность в людях не связана непосредственно с имеющимся рынком труда. В экономике далеко не редки ситуации, когда соединение людей с неиспользуемыми ресурсами как раз и создает рынок труда там, где его до этого не было. Так развивалась такая страна, как США. Это не значит, конечно, что в России нет проблем с существующим рынком труда, которые также не могут быть решены без привлечения мигрантов. Неслучайно «оптимизация потоков трудовой миграции исходя из потребностей национальной экономики» рассматривается как одна из важных задач стратегического экономического планирования. Численность населения в возрасте 20–64 лет — основной контингент трудоспособного населения — после 2012 г. сокращается, и к началу 2030-х годов это сокращение составит 10-12 млн человек. При этом доля младшей возрастной группы (20–39 лет) по отношению ко всему этому контингенту к 2032 г. понизится с 48 до 37%. Приспособиться к столь быстрому и значительному сжатию предложения без привлечения дополнительных мигрантов рынок труда едва ли сможет, особенно с учетом того, что еще совсем недавно ситуация была противоположной, и рынок труда привык к тому, что численность и доля трудоспособного населения неуклонно росла. Запрос рынка труда на работников-мигрантов имеет не только количественный, но и качественный аспект. Сейчас нет ясного представления о том, в каких именно работниках нуждается и будет нуждаться российская экономика в ближайшие 10-20 лет. Согласно широко распространенным взглядам, нам требуются квалифицированные иммигранты, хотя понятие «квалифицированный» практически никогда не определяется, и непонятно, идет ли речь о квалифицированных рабочих, квалифицированных земледельцах или только о топ-менеджерах и исследователях высшей квалификации. В то же время неясно, за счет кого будет удовлетворяться потребность в работниках массовых профессий в сфере обслуживания, торговле, строительстве, коммунальном хозяйстве и т. п., квалификационные требования к которым не столь уж высоки, при том, что спрос на них весьма значителен. Ориентация на приток извне квалифицированной рабочей силы плохо увязывается с повышенным спросом на молодых работников, который вытекает из быстрого старения собственного трудоспособного населения. В достаточно массовых потоках трудовой миграции из Средней Азии или других развивающихся азиатских стран, на которые может рассчитывать Россия, неизбежно будет много молодежи, но, соответственно будет высока и доля низкоквалифицированной рабочей силы, вчерашних крестьян, не подготовленных или плохо подготовленных к городским видам деятельности и способных заполнять лишь нижние этажи профессиональной пирамиды. Но на их дешевый непритязательный труд всегда есть спрос, за счет именно такой миграции сформировалось городское население России и других стран: уже живя в городах, оно стало образованным и квалифицированным. Потребности рынка труда в притоке рабочей силы извне могут быть, в значительной степени покрыты за счет временной трудовой миграции, «гастарбайтеров». Однако такая миграция дает лишь ограниченный ответ на экономические и не дает ответа на демографические вызовы. Она не позволяет поддерживать или даже наращивать численность населения страны или хотя бы каких-то ее слабо заселенных регионов. Поэтому разумная стратегия должна быть ориентирована на одновременный ответ и на те, и на другие вызовы. Такая практика существует во многих странах, где имеются программы, предполагающие растянутые по времени пребывание и работу в принимающей стране. Мигранты как бы проходят ряд фильтров, получают возможность менять свой статус в стране приема, их документы о временном проживании и работе могут неоднократно продлеваться. В конечном счете во многих случаях временное пребывание постепенно переходит в постоянное проживание или натурализацию. Формально Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 г. (принята в 2012 г.) по своему замыслу — также «гибридная», объединяющая в единое целое политику и временной, и постоянной миграции, подчеркивающая важность интеграционной компоненты. Однако на практике меры по развитию постоянной миграции все еще остаются на стадии обсуждения. Из принятых более 50 законодательных актов практически ни один, за исключением программы переселения соотечественников, непосредственно не относится к миграции на постоянное место жительства. В общественно-политическом дискурсе в России, как и во многих других странах, принимающих мигрантов, постоянно подчеркиваются связанные с массовой иммиграцией риски — социальных напряжений и конфликтов, разрушения культурной идентичности коренного населения и т. п. Эти риски, безусловно, существуют, однако все они вытекают не из каких-то врожденных качеств мигрантов, а из их недостаточной интегрированности в принимающее общество. Поэтому главный вызов иммиграции для России — это вызов интеграции мигрантов в российский социум. Россия нуждается в людях, и следовало бы в максимальной степени использовать иммиграцию как демографический ресурс. Но страна не может принимать больше людей, чем она способна интегрировать. Эта способность имеет свои границы, однако ее можно наращивать. Это — самостоятельная задача, если она будет осознана и станет решаться, будет смягчена и острота демографических проблем России. ВЫЗОВЫ ЭМИГРАЦИИ Демографических оснований для эмиграции из России нет, и, хотя эмиграция существует, ее масштабы не таковы, чтобы оказывать серьезное влияние на демографическую ситуацию, как это имеет место, например, в некоторых странах Балтии. Эмиграция представляет собой вызов как «утечка мозгов», это скорее экономический или политический, нежели демографический вопрос. Судить о масштабах эмиграции из России довольно сложно. Как показывает мировая практика, качество учета иммигрантов, как правило, намного превосходит качество учета эмигрантов. Иностранные граждане, приезжающие в другую страну для постоянного проживания, учитываются при переписях и выборочных обследованиях, отражаются в регистрах населения и иностранцев, а также других административных информационных системах. Благодаря этому, во многих странах имеются данные о потоках и числе иммигрантов, их различных социально-экономических и демографических характеристиках. По этой причине при определении числа эмигрантов из Российской Федерации правильнее ориентироваться на статистику стран их приема. О современных расхождениях российских и зарубежных оценок свидетельствуют данные, приведенные в таблице 6. Как видно, эти расхождения достигают значительных величин. Так, немецкая оценка миграционного прироста Германии за счет России превышает российскую оценку в 22 раза, испанская — в 28 раз, австрийская — в 18 раз. Число россиян, получивших иммиграционный статус в Канаде, в 46 раз превышает количество тех, кто выехал по российским данным в Канаду на постоянное место жительство. Даже принимая во внимание различные критерии определения эмигрантов/иммигрантов в приведенных в таблице странах, очевидно, что российская статистика недоучитывает масштабы эмиграции. Эмиграцию из Российской Федерации в постсоветский период, с учетом ее объемов и географии, а также социально-демографических характе- ристик эмигрантов, можно разделить на две волны. Первая и более мощ- ная из них началась еще в конце 1980-х гг. и закончилась в начале 2000 гг. Вторая последовала за первой и продолжается в течение десяти последних лет (рис. 31).
|
