Быть-в-присутствии-другого-Робин. Ббк 53. 57 Р43 ЖанМари Робин
 Скачать 1.55 Mb. Скачать 1.55 Mb.
|
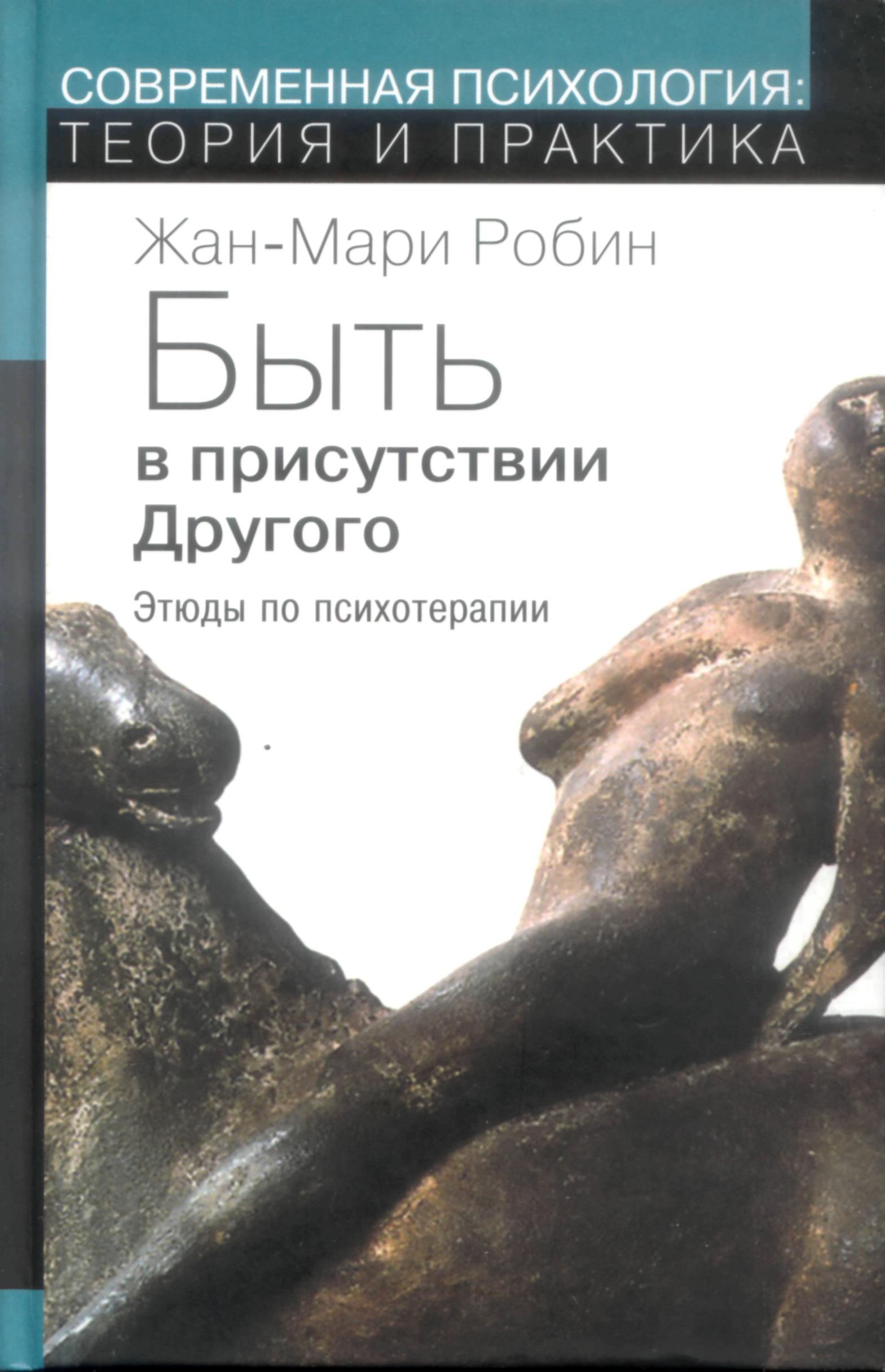 УДК 615.8 ББК 53.57 Р43 Жан-Мари Робин Быть в присуствии другого: этюды по психотерапии — М., Институт Общегуматинарных Исследований, 2008 — 288с. (Серия: "Современная психология: теория и практика") Переводчики: Игорь Дубровский и Марина Павловская Редакторы: Наталия Кедрова и Даниил Хломов Предисловие к русскому изданию  Жан-Мари Робин — клинический психолог, гештальт-терапевт, один из создателей Европейской Ассоциации Ге-штальт-терапии. В разное время был президентом ЕАГТ, директором Французского Гештальт Института, редактором и издателем французского журнала «Гештальт» и «Гештальт-тетради». Жан-Мари Робин — автор книг «Ге-штальт-терапия», «Формы гештальта», «Раскрывающееся Я», «Быть в присутствие другого» переведенных на испанский, английский и русский языки, преподаватель ге-штальт-терапии в разных странах обоих полушарий, в том числе в России и на Украине. Жан-Мари Робин — клинический психолог, гештальт-терапевт, один из создателей Европейской Ассоциации Ге-штальт-терапии. В разное время был президентом ЕАГТ, директором Французского Гештальт Института, редактором и издателем французского журнала «Гештальт» и «Гештальт-тетради». Жан-Мари Робин — автор книг «Ге-штальт-терапия», «Формы гештальта», «Раскрывающееся Я», «Быть в присутствие другого» переведенных на испанский, английский и русский языки, преподаватель ге-штальт-терапии в разных странах обоих полушарий, в том числе в России и на Украине.ISBN 978-5-88230-233-6 © RobineJ.-M.,2004. О Оформление, Институт Общегуманитарных Исследований, 2008. Больше полувека назад Перлз и Гудмен своей книгой «Gestalt Therapy, Excitment and Growth in the Human Personality» произвели существенный поворот, который ставит их в самый центр рефлексии сегодняшнего дня: они сдвинули с места понятие self, лишили места, децентрализовали и наделили его временем. В рамках «современного» подхода, изрядно солипсического, индивидуальное «Я» было признано в качестве единственной реальности, и психика была одним из главных аспектов. Опираясь на самый простой первичный факт, состоящий в том, что человеческая функция существует только в контакте со средой, сказанные авторы придают структуру новаторскому ходу мысли и практике в прямой связи с этой естественной концепцией человеческого естества. Понятие self в те времена еще не совсем вошло в словарь психоанализа и психотерапии. Оно узнало свои часы славы, лишь когда такие авторы, как Winnicott или Kohut сделали его известным. Когда его 6Жан-Мари РобинБыть в присутствии другого пускали в ход, то сводили к некоторым отдельным аспектам и делали некоей более или менее стабильной сущностью. Зачастую так обстоит дело и сегодня. В гештальт-терапии то, что мы называем self, существует только там и тогда, где и когда есть контакт. Self не существовал заранее, не обнаружился, не проявился, не выразился в контакте. Self и есть контакт. Он сложенное и раскрытое. Движение. Он приведение в действие сил творческого приспособления, которые действуют на границе контакта организм/среда. В этом поле, определяемом как «организм и его среда», функция- self обозначает внутренние движения поля, движения интеграции и дифференциации, унификации и индивидуализации, действия и трансформации и т. д. Чтобы иметь возможность расти и развиваться, организм должен встречаться с новым, отличающимся, не-Я. Он выстраивает его в фигуру, то есть выстраивает гештальт — и в производстве контакта, который он таким образом производит, на волне возбуждения, которое сопровождает такое «формирование формы», отсылается к той перманентной индивидуализации, тому различению себя и мира, которое идет непрерывно. Этот процесс называется self. «Self— лишь небольшой фактор в целостном взаимодействии организм/среда, но он играет ключевую роль, которая состоит в создании и развертывании значений, благодаря которым мы можем развиваться», — писали Перлз и Гудмен. Эти тезисы, составляющие суть теории и практики гештальт-терапии, являются центральной темой моих работ, прежде собранных в книге, которая озаглавлена «Unfolding Self». Делокализация self как внутрипси-хической инстанции и его новое позиционирование в качестве феномена поля, введеное Перлзом и Гудме-ном, может вызвать немалое удивление своим проро- ческим характером по отношению к трудам множества философов, социологов, психологов и эссеистов второй половины XX и начала XXI века. Внимательный читатель, конечно, смог заметить в их книге определенные колебания между традиционной концепцией self-Я, которую некоторые авторы позднее назвали «Я-объект», и новаторской концепцией, набросок которой они дали, а вместе с ней — новую пага-дигму, которая будет развернута некоторыми мыслителями постмодернизма, социального конструкци-онизма, интерсубъективного психоанализа и других философов, занятых проблемой идентичности. Изрядное число их будущих идей и гипотез присутствует там в форме зачатков. Потому так важно, чтобы основополагающий труд гештальт-терапии был продолжен и, насколько это возможно, развит в соответствии с имплицитными и эксплицитными принципами, которые легли в его основание. Я с опозданием узнал то, о чем раньше догадывался, а именно то, что Исадор Фром, мой учитель в области гештальт-терапии и долгое время последний представитель кружка отцов-основателей, ожидал от меня (и, возможно, от кого-то другого) творческого продолжения начатого. Это труд, который я взял на себя четверть века назад. Читатель найдет в этой книге последние шаги этого поиска — вместе с его первыми шагами, повторами, скачками, сомнениями и топтанием на месте, страхами и эмоциями. Когда границы Советского Союза открылись и зарождающееся московское гештальтистское сообщество пригласило меня для дополнения образования, которое они стали получать несколькими годами раньше, я узнал в них свой прошлый жизненный путь: сначала встреча с гештальт-терапией в практике и переживаемом опыте, потом неудовлетворитель- 8 Жан-Мари Робин ные — ибо недостаточные — элементы теории, наконец, открытие подлинного стержня нашего подхода в его фундаментальных понятиях. Сегодня это самое сообщество, которое я имел удовольствие и честь сопровождать 15 лет, благодаря этой книге и нашим семинарам получает возможность познакомиться с самыми свежими из моих работ. Мне остается пожелать, чтобы русские коллеги и отныне друзья не остановились на этом, а сумели в свою очередь продолжить труд, начатый нашими основателями, и сделать новый шаг вперед, чем они смогут обогатить гештальтистское сообщество. Предисловие Жан-Мари Робин Издание книги Жана-Мари Робина на русском языке — событие большое и долгожданное. И не только потому, что Жан-Мари был тем человеком, который подготовил первое поколение российских ге-штальт-терапевтов и преподавателей гештальт-те-рапии, откликнувшись в 1992 году на приглашение Московского Гештальт Института приезжать в Москву и вести образовательную программу «Совершенствование в гештальт-терапии», что он делал в течение трех лет и с тех пор продолжает приезжать и делиться своими всегда немного новыми размышлениями, и поэтому его книга будет очень интересна многочисленным участникам его семинаров. И не только потому, что Жан-Мари является одним из наиболее глубоких и интересных современных гештальт-терапевтов, практикующих гештальт-терапию, и развивающих теорию и методологию гештальт-терапии, и идеи, изложенные в книге, будут полезны преподавателям гештальт-терапии, психотерапевтам, размышляющим о своей работе, ищущим новые творческие ресурсы для своего роста. 10 Жан-Мари Робин Быть в присутствии другогоЦ  И даже не только потому, что Жан-Мари очень обаятельный, остроумный и глубокий человек, и публикацией этой книги мы надеемся выразить хотя бы частично наши признательность и восхищение. И даже не только потому, что Жан-Мари очень обаятельный, остроумный и глубокий человек, и публикацией этой книги мы надеемся выразить хотя бы частично наши признательность и восхищение.Все это разумеется имеет место быть, но издание этой книги очень важно и для развития гештальт-те-рапии в русскоязычном пространстве. Гештальт-терапия долгое время была в значительной мере представлена лозунгами и принципами в которых в сильно упрощенном виде давались основные идеи Ф.Перлза, так, как они были восприняты его последователями, свидетелями его демонстрационных сессий. Можно было даже подумать, что гештальт-терапия сродни искусству волшебника, чьи секреты нельзя передать словами. Просто — крибле-крабле-бумс! — и симптом пропал, страдание ушло, человек все осознал и пошел себе счастливый и со свободной душой. И все это можно только прочувствовать и нечего даже пытаться теоретизировать по этому поводу. Но за этими изящными эффектами стоит глубокая научная психологическая и философская теория, начатая еще Куртом Гольдштейном и Куртом Левиным, продолженная Полом Гудменом. Теория гештальт-терапии — и это хорошо прослеживается в текстах этой книги — никак не является догмой или предписанием для терапевта, чем-то застывшим, завершенным. Напротив, она поддерживает способность терапевта сомневаться и быть внимательным к изменчивости и мимолетности сиюминутности событий, замечать возникающую новизну, поддерживающую рост терапевта и клиента. В основе теории гештальт-терапии лежит представление о контакте как основном событии опыта, происходящем на границе между Я не-Я, событиях, происходящих в поле «организм/среда», контак- те как естественном способе саморегуляции человека в его жизненном пространстве и необходимом условии роста. Контакт рассматривается как элементарная частица, как единица опыта, простейшая и первичная форма существования психического, которую невозможно зафиксировать, но возможно исследовать, наблюдать, описывать, с которой возможно экспериментировать, анализировать и использовать как инструмент в психотерапевтической работе. Теория гештальт-терапии 50-70 годов в большей степени описывала индивидуальный процесс человека, современная теория гештальт-терапии рассматривает события контакта в поле, объединяя процесс клиента и процесс терапевта в едином пространстве. В таком случае психотерапия рассматривается как процесс изменений не только клиента, но и терапевта, как равноправных участников событий. Применение теории поля к гештальт-терапии в 90-2000 годы позволило преодолеть ограничение индивидуалистического взгляда на человека и на невроз, по-новому увидеть человека в единстве с его ситуацией, описать взаимовлияние клиента и терапевта в ходе психотерапии, дать новые направления для терапевтического мышления. Развитие теории гештальт-терапии в русскоязычном пространстве связано с разработкой теории личности и психического развития в культурном пространстве, теории патопсихологии, из чего выросла достаточно самобытное и глубокое направление — динамическая теория гештальт-терапии Хломова. Теория гештальт-терапии позволяет психотерапевту обрести и сохранить максимальную устойчивость и стабильность при максимальной гибкости и чувствительности, быть осознанным и присутствующим в контакте, и таким образом использовать свои ресур- 12 Жан-Мари Робин сы для поддержки осознанности и полноты присутствия клиента, обретения спонтанности и свободы и ответственности, раскрытия творческих потенциалов и терапевта и клиента. И это позволяет гештальт-те-рапии на практике оставаться не только научно обоснованным, но все и немного чудесным делом. Книга Жана-Мари - как и гештальт-терапия - открывает возможности для размышления, спора, несогласия и открытий, для встречи различных точек зрения на события в поле «терапевт-клиент». Надеемся, что чтение этой книги поддержит развитие собственных теорий гештальт-терапии и подарит новые идеи для работы. Введение Блистательные инновации гештальт-терапии — отказ от фрейдистского бессознательного в пользу холистической концепции человека, которая сориентирована в рамках категории поля; переориентация практики работы с клиентом с археологического исследования причинности на творческую импровизацию в момент самой терапевтической сессии — принадлежат временам пятидесятилетней давности. В дальнейшем они не получили столь же блестящей разработки и развития. Возможно, продолжатели большинства интеллектуальных и культурных движений по своему творческому потенциалу редко приближаются к их основателям. Вместе с тем число ге-штальт-терапевтов неизменно растет, хотя движение продолжается главным образом по боковым линиям. Институты, готовящие гештальт-терапевтов, существуют во многих странах мира на многих континентах. Некоторые из них процветают, но большинство вынуждено бороться за выживание. Издается все больше журналов и собирается все больше конгрессов по гештальт-терапии. Тем не менее, среди гештальт-терапевтов есть лишь небольшое число преподавателей, мыслителей, авторов, которые сумели пойти дальше 14 Жан-Мари Робин Быть в присутствии другого 15 по пути, проложенному во времена, когда эта великолепная теория и практика сошла на землю. В ряду этих немногих Жан-Мари Робин (который живет во Франции в Бордо, но в качестве кочующего терапевта преподает по всему миру, словно исполняет некую неотложную миссию) предстает одной из самых значительных и творческих фигур на современной сцене. Особенный талант Робина-теоретика заключается в той чувствительности, которая легко переходит от способности философа рассуждать в строгих терминах к способности клинициста очаровываться нюансами переживания и поведения. В анналах психологической теории чувствительность такого рода встречается нечасто. Уильям Джеймс (он не был терапевтом, но у него был наметанный глаз и интуиция хорошего клинициста), сам Фрейд, Медард Босс, Ван Ден Берг, Эрвин Страус, а также такой особенный мыслитель, как Жак Лакан, — вот имена, которые приходят мне на ум. Рассудочность философа и чуткость терапевта, сотканные вместе, кажутся мне идеальным сочетанием талантов необходимых тому, кто разрабатывает новую психологическую теорию. В этой связи стоит вспомнить, что до конца XIX века психология рассматривалась как отрасль философии. Но с момента появления психотерапии она оказалась захвачена новым социальным движением — волной профессиональной специализации. Психотерапия и психологическая теория подпали под власть определенных воззрений на медицину. Вместе с тем гештальт-терапия — по крайней мере в начале своей истории — сохраняла тесную связь с философией. Опыт чтения первых глав тома, написанного Гудменом для книги «Гештальт-терапия» (авторы Перлз, Хефферлин, Гудмен), скорее напоминает знакомство с очередной книгой Джеймса, Бергсона или Мерло-Потни, неже- ли чтение учебника, излагающего конвенциональное описание психологии, или монографии по психоанализу (дальше по ходу книги тон и стиль несколько меняются, когда влияние эго-психологии делается более весомым). Затем с гештальт-терапией вообще происходит нечто странное. Оставив в Нью Йорке своих коллег, более склонных к литературе и философии (включая жену Лору, Пола Гудмена и Изадора Фрома), Фредерик Перлз перебрался в Калифорнию, где в 1960-х годах под его харизматическим руководством гештальт-терапия приобретает черты духовного движения. В такой форме гештальт-терапия переживает пик популярности. Это можно назвать периодом «вульгарной гештальт-терапии», ибо она походила на изначальные идеи Перлза и Гудмена не больше, чем «вульгарный марксизм» походит на то, что было написано самим Карлом Марксом. «Примите на себя ответственность за ваши чувства», «Я это я, а ты это ты», — провозглашала эта версия гештальт-терапии. Слоганы были звучными, но поспешными и редукционистскими. Они плохо ориентировали практика на кропотливую, сложную, созерцательную работу, которая состоит в том, чтобы сопровождать другого в его проблемах и с его неиспользуемыми возможностями. Это стало несчастьем не только для гештальт-терапии, но помешало психотерапии в целом. Идеи, с которыми выступили Перлз, Хефферлин и Гудмен, по большей части потерялись в том энтузиазме, который американцы проявили в отношении быстродействующих «shoots», хотя сам Перлз, в конце концов, предостерегал против этого, а большинство клиницистов, позиционирующих себя вне непосредственных кругов гештальт-терапии, относились к 16Жан-Мари Робин Быть в присутствии другого17 этому с полным презрением. Это несчастье продолжается до наших дней. Робин всегда был глубоко интегрирован в ге-штальт-терапию, но сама природа его включенности с необходимостью влекла его в направлении, которое было принципиально отлично от гештальт-тера-пии 60-х годов. Перед нами радикальный мыслитель в лучшем смысле слова. Я говорю о радикализме такого рода, который открывает новые горизонты, добираясь до корня проблемы (что и есть подлинное значение слова «радикальный»1). Мы склонны думать, что радикалы — это люди, настолько эволюционировавшие влево, что они порывают связь с традиционной политикой и культурой и оказываются вне игры. В действительности, лучшие радикалы стоят на стороне консерваторов. Они могут смотреть на существующие институты как бюрократическое извращение уважаемых традиций, например, традиции свободы или традиции стремления к совершенству. Отправным пунктом радикализма Робина необходимо считать его возвращение к основополагающему тексту Перлза, Хефферлина и Гудмена, прочесанному Робином вдоль и поперек, а также мыслителям, повлиявшим на Перлза и Гудмена, как-то Отто Ранк, Курт Левин, Джон Дьюи. В этом поиске Робин больше всего напоминает Жака Лакана и его знаменитое возвращение к Фрейду. Лакан пытался расчистить напластования поверхностных и посредственных интерпретаций, загромождающие тексты Фрейда, чтобы отыскать их подлинные основания. Робин совершает нечто подобное в отношении Гудмена. В результате открываются радикально новые возможности. На первый план выходят вещи, которые не принимались в 1 Позднелат. radicalis от лат. radix, «корень», — прим. пер. расчет или не были известны нескольким поколениям последователей. Новизна идей Робина отчасти связана с тем, что его возвращение назад не является простым возвращением в прошлое. В своих теоретических текстах Робин неизменно мерит принципы Перлза, Хефферлина и Гудмена аршином своего характера и тех изменений, которые произошли в западной культуре со времени появления их книги. Здесь существенно то, что Робин является французом. Во второй половине минувшего столетия философия и искусство сделали крутой вираж, перейдя от эпохи современности к тому, что известно как «постмодернизм». Если говорить об интеллектуальных сферах, имеющих наибольшее отношение к психологии и психотерапии, этот вираж переместил центр тяжести из Германии и Соединенных Штатов, где доминировало влияние Фрейда, Гуссерля, Хайдеггера, Бубера и Левина, а также их американских эквивалентов таких, как Джеймс и Дьюи (я называю только тех, с кем гештальт-терапия связана наиболее тесно), во Францию, где Лакан, Мер-ло-Понти, Левинас, Деррида и Делез переформулировали в новые парадигмы то, чему они научились от своих немецких предшественников. Робин пропустил гештальт-терапию через фильтр мысли тех и других, вернувшись к тем, кто повлиял на Перлза и Гудмена, и одновременно пойдя дальше за своими соотечественниками самого последнего времени (кроме Лакана, к которому Робин не проявляет интереса). Что может принести гештальт-терапии запутанная современная философия? Не усложнит ли это жизнь гештальт-терапевта? Наверное, это так. Однако превратности человеческого существования сами по себе неуловимы и трудны для понимания. Расхожая тенденция в терапии состоит в их редукции к детерми- ISЖан-Мари Робин Быть в присутствии другого19 низмам, как поступают те, кто утверждает, что душевная болезнь — сплошная биология, детская травма или плохая среда. Такие психотерапевты уходят от сложного и творческого характера нашей психической жизни. Очень важно обратить внимание на этот момент. Фрейд вдохновлялся образом Сократа и древней философской традицией познания самого себя. Его концепция облегчения ментального страдания предполагает дисциплину исследования себя в присутствии кого-то, кто слушает и интерпретирует с сочувствием и знанием дела. В этом долгое время состояла культурно господствующая концепция психотерапии. Но и в наши дни она играет роль в борьбе с ме-дикализацией и рационализацией здравохранения, которые повсюду затрагивают также и терапевтическую практику. Сократический подход находится под угрозой исчезновения; по крайней мере так обстоит дело в лечебных учреждениях. Сохранять сократическую традицию означает способствовать тому, чтобы философские исследования имели столько же влияния на психотерапию, сколько имеют исследования в области психологии и неврологии. Я думаю, Робин согласится со мной, если я скажу, что лучшая психотерапия есть в некотором роде прикладная философия. Как я уже сказал, гештальт-терапия весьма предрасположена к философии. Гештальт-терапия подчинила то, что она взяла из психоанализа, не только гештальт-психологии, но и феноменологическим и экзистенциалистским концептам и добавила к этой смеси изрядную дозу философии американского прагматизма. Это произвело на свет практику особого рода. Психотерапевт внимательно наблюдает, он использует саму терапевтическую сессию как место действия: он использует способ, которым пациенты придают свои собственные стили специфического выражения (включая сюда симптомы) своему опыту переживания как себя самих, так и своего мира; если быть более точным — опыт переживания самих себя в своем мире. Большинство гештальт-терапевтов привержены этому принципу на практике. Но теория гештальт-те-рапии по большей части не осталась на высоте положения. Литература по гештальт-терапии после Перл-за, Хефферлина и Гудмена, в частности написанная по-английски, пестрит ссылками на «феноменологию пациента» или «наш феноменологический подход», словно можно поручиться за то, что все знают, как эти выражения следует понимать. Как можно распространять некую идею на новые сферы, если рассматривать ее как нечто само собой разумеющееся и притом весьма поверхностно? Если ссылаться на философию на уровне теории, надо принять всерьез то, что написали философы, о которых идет речь. Но у Робина, который привнес в теорию гештальт-терапии свои энциклопедические познания в области феноменологической и экзистенциалистской философии, в этом деле немного соратников! Заимствования, которые Робин производит в философии, помимо всего прочего, подкрепляют принцип — некоторым он представляется теперь вышедшим из моды, — согласно которому осознание выступает предварительным условием терапевтического изменения. Идея познания самого себя, фундамент сократической традиции, разумеется, является и всегда была фундаментальной для психоаналитической традиции, в соответствии с которой познание себя и составляет лечение. Традиционно идея принималась как инструмент осуществления интроспективного исследования, путешествия внутрь себя. Но Робин, развивая некоторые положения гештальт-терапии, кардинально меняет точку зрения. Психоана- 20 Жан-Мари Робин быть в присутствии другого 21 лиз был изначально нацелен на понимание внутренней жизни отдельного пациента с ее неосознанными конфликтами, блокированными инстинктивными импульсами и защитными механизмами. В последнее время психоаналитическая теория и практика приблизились к теории гештальт-терапии пятидесятилетней давности (не желая, впрочем, признавать своих предшественников), ставя в центр своего интереса отношение и межличностные аспекты человеческого поведения. Робин, однако, находит в сочинениях Гудмена такие темы, которые влекут его к тому, чтобы продвинуть гештальт-терапию значительно дальше, а именно речь заходит о фазе конструирования опыта, которая предшествует реляционным и интерсубъективным планам рассмотрения. Хотя реляционные и интерсубъективные варианты психоаналитической терапии в разной степени переносят внимание с внутренней жизни пациента на отношение пациента и терапевта, они выдвигают гипотезу, что это отношение имеет место между уже индивидуализированными selfs, которые трактуются так, как если бы они напоминали готовые изделия. Робин выдвигает совсем другое предположение. Он никогда не был чересчур озабочен готовыми продуктами в области психологии. В его последних работах собственно теория и практика не связаны готовым мнением о индивидуализированных selfs или установленных ролях. Но если не self индивида и не реляционное и интерсубъективное self выступает предметом психологии, то что тогда? И что это может означать для практики психотерапии? Основу ответа на эти вопросы можно найти уже в первых работах Пер-лза, Хефферлина и Гудмена. В частности, Гудмен пишет: «Мы говорим об организме, который контактирует со средой, но контакт и есть первая, самая про- стая реальность»2. Другими словами, сам «контакт», который определяется как продолжающееся, активное, изменчивое отношение организма и среды, является основным предметом психологии. Это означает, что психологический опыт локализуется не внутри личности в качестве комбинации импульсов и ментальных представлений о внешнем мире и не во взаимодействии субъективного self и объективного мира, а в активных контактах лица и мира, в который лицо уже интегрировано, т. е. речь идет о контакте, в котором каждый элемент придает форму другому и ничего нельзя отделить от другого без серьезного обеднения опыта и утраты смысла. Робин начал обдумывать и разрабатывать эти идеи в одном из своих ранних очерков «Контакт, первый опыт» (1990 г.), который опубликован в его предыдущей книге. Он хорошо дает понять, что для гештальт-терапии контакт — подлинный акт встречи — предшествует всему, что может быть понято как отношение (определять ли отношение в терминах отношений объекта или с точки зрения экзистенции и диалога, т. е. как нечто межличностное). Если вхождение в контакт — первый феномен ментальной жизни человека, то сама эта деятельность должна привлечь внимание психологической теории и практики психотерапии. Отмечая это, Робин подчеркивает разрыв с разработкой этой темы в психологии, произведенный гештальт-терапией полвека назад. Данный разрыв одновременно прост и предельно радикален. Если Робин в своей теории ставит на первое место контакт, то тогда какую роль в гештальт-терапии должно играть понятие self? Существенно установить различие — в особенности, для англоязычных читателей — между тем, что Робин понимает под self, и тем, 2 Perls F, Hefferline R., Goodman P. Gestalt-therapie. 2001, p. 49. 22Жан-Мари Робин Быть в присутствии другого23 что обычно под этим подразумевают, а также разобраться, почему Робин говорит о «self в развертывании». Понятие self долгое время было центральным пунктом англо-американской психологической теории; self описывали так, словно self разделяет свои характеристики с материальными объектами, существующими в пространстве (но позволительно спросить, в каком пространстве существует self?). Self, таким образом, наделяется по меньшей мере спорной природой, иллюзорной устойчивостью, словно это вещь, которую терапевт может четко себе представить, затем исследовать, диагностировать и лечить, а пациент — оценить, реализовать, сделать подлинным. Такие объективирующие представления о self возникают из картезианского разделения существования на закрытые индивидуальные сознания, которые пытаются управлять миром материальных объектов. В западных культурах это разделение использовалось уже протестантскими теологами, в частности кальвинистами и пуританами, которые отдавали предпочтение взгляду внутрь себя (самонаблюдению, «экзамену совести») и наказывали тело. Вне религии это развил позитивизм XIX века. В пост-фрейдистских школах психоанализа в Англии и Америке распространились понятия «подлинного self», «ложного self» и другие определения «ядра self» (core-self). И даже гуманистические направления в психологии середины прошлого столетия сделали своей целью развертывание self (самореализацию или самоосуществление). В своем понимании гештальт-терапии в 1960-е годы Перлз по большей части присоединялся к такой индивидуалистской и пространственной концепции self. Она лежит в основе его понимания слоев ложного self, обволакивающих подлинный и подавленный self, который остается вызвать к жизни, а также в ос- нове его концептов «собака сверху» и «собака снизу», которые, похоже, являются переводом в духе поп-арта интернализаций и идентификаций теории объектных отношений. Но в текстах Гудмена появляется нечто совсем иное. В первой части теоретического тома Перлза, Хефферлина и Гудмена self определяется через движение от внутреннего к внешнему (как это имеет место в психодинамических теориях) и не от внешнего к внутреннему (как в бихевиоризме), а как эстетическая деятельность: эта деятельность состоит в придании формы опыту в том самом пункте, где производит встреча человека и того, что его окружает. Эта захватывающая мысль подразумевает определение self скорее в качестве процесса, совершающегося во времени, нежели в качестве квази-пространс-твенной сущности, и является другим радикальным разрывом (даже если это был разрыв такого рода, на чем сам Гудмен вовсе не настаивал) с господствующей западной традицией. Отправляясь от такого понимания self как процесса, протекающего во времени, Робин и определяет ведущее направление своей теоретической работы. Робин не отбрасывает психологические понятия и другие структурные подходы к психике. Как известно, они значительно обогатили наше понимание человеческого функционирования. Тем не менее Робин не согласен рассматривать self как нечто существующее в некоем внутреннем психическом пространстве. Ему интересно знать, что будет, если теоретик последует за Гудменом в его описании self как инстанции созидания форм, которая сама меняется по форме, помещаясь там, где организм и среда обоюдно и непрерывно включаются в изменчивые взаимодействия. Приходя, таким образом, в движение на этой кромке взаимодействия, self и то, что его окружает, имеют тен- 24 Жан-Мари Робин Быть в присутствии другого25 денцию исходить одно из другого и растворяться одно в другом. То же, что остается, — это поток, река одномоментных и преходящих форм, в которых различия между «я» и «другим», внутренним и внешним в конце концов исчезают — или остаются разве что оборотами речи. В концепции Робина self может быть только мимолетным, схватываемым частично, чем-то, что можно описать лиш глаголом, но не существительным. Для него self в гораздо большей мере состоит из протекания во времени, нежели чего бы то ни было, похожего на пространство. Акцент, сделанный на темпоральности, подразумевает не то, что опыт будто бы лишен структуры, а то, что опыт состоит в изменчивой структуре и в движении. «Гештальт-терапия, — пишет он, — в гораздо большей мере происходит из культуры глагола или наречия, чем из культуры существительного. То, что нас интересует, является не зафиксированными формами... [здесь он цитирует Лору Перлз], а формами в движении, формированием форм». Self у Робина скорее напоминает элементарную частицу в физике, которую нельзя уловить, потому что в момент, когда вы ее воспринимаете и стараетесь назвать, она уже изменилась или уже исчезла. Даже глаголы и наречия не могут передать self в полной мере. В случае с элементарными частицами у вас есть впечатление, что они были, лишь благодаря следу, который они оставили за собой, или потому что это предполагают ваши расчеты. В случае с self то, что остается, есть форма опыта. Они могут застыть в пространстве. Художник рисует, и после него остаются картины, на которые мы можем взглянуть. Но он сам уже в другом месте, он продолжает рисовать. Можно заметить, как часто в этом разговоре мелькает слово «форма». В самом деле, это слово появля- ется на всем протяжении творчества Робина. Исследование опыта у Робина, как во всякой правильно усвоенной гештальт-терапии, всегда требовало особого внимания к тому, каким образом опыт создан, и, следовательно, к формам, которые придаются опыту в самом акте опыта («форма» одно из значений слова «гештальт»). Создание форм также является одной из главных задач художников. Потому не столь удивительно, как это может показаться на первый взгляд, что самый ранний из очерков Робина, опубликованных в его предыдущей книге, озаглавлен «Эстетика психотерапии» (1984) и рассматривает гештальт-те-рапию через призму критериев, которые обычно прилагаются к произведениям искусства, вопреки психологической теории, которая традиционно стремится быть научной практикой. Можно сказать, что для терапевта эстетическая задача заключается в исследовании того, что происходит, когда люди, плохо справляясь с проблемами, останавливают поток своего опыта и тем самым представляют свою жизнь в свете ее ограниченных возможностей (временами даже строго ограниченных). На языке гештальт-терапии это называется «фиксированный гештальт»; в эстетических терминах это — навязываемые опыту стереотипы, которые его стесняют и ведут к плохим и негодным конфигурациям. Таким именно образом гештальт-терапевт вступает в область психопатологии. В самой психологической теории Робин усматривает также другую опасную наклонность: подмену имени или понятия тем, что это имя или это понятие в какой-то момент неточно обнаруживают. Его теория по большей части сориентирована в этом направлении. В глазах Робина худшим злом является построение теории на основе имен существительных, а затем претензии на то, что эта тео- 26Жан-Мари РобинБыть в присутствии другого27 рия «истинна» и дает описание «реальности». Подобные теории не дают терапевту идей, способных повести его за собой и поддержать его творческие способности, а вынуждают оперировать терапевтическими формулами, сводящими дело к тайнам бытия пациента. Очерки, составившие эту книгу, последовательно освещают каждую из граней гештальт-терапии с оригинальных точек зрения. Хотя в своей книге Робин демонстрирует любовь к философии, в ней также находится место для его собственных размышлений и примеров, взятых из индивидуальной и групповой терапии, так что по ее прочтении остается впечатление тесной связи его развития как теоретика и его опыта как терапевта. Один из аспектов этой связи, в частности, заслуживает более развернутого анализа, поскольку Робин пришел к формулировке, которую можно считать его самым значительным вкладом в связь теории и практики гештальт-терапии. Особенность терапевтического подхода Робина состоит в том, что по возможности не нужно опираться на готовые идеи, и нужно воспринимать все, что может произойти. По мере появления фигур, форм, схем, ролей терапевт и пациент могут скрупулезно исследовать, как эти конфигурации, на деле, возникают в процессе совместной терапевтической сессии. На языке постмодернизма можно сказать, что это метод экспериментальной деконструкции. Саму терапевтическую сессию Робин рассматривает как своего рода конструкт, временное устройство в поле возможного, из которого может создаться бесконечное множество конструктов. Целью является рост осознания возможностей (в особенности той, которую привносит пациент, и которая обычно является фиксированной и симптоматичной) в непрерывном течении опыта по мере его формирования. Из этой выигрышной позиции теоретик может вести исследования, а терапевт наблюдать, как пациент и терапевт, вступая в активное взаимодействие и образуя целое, наделяют структурой и смыслом данную ситуацию. Слово «ситуация» Робин заимствует у Гудмена, а Гудмен воспринял его от Джона Дьюи. Применительно к терапевтической сессии ситуацию можно описать как комнату, в которой два человека, пациент и терапевт, садятся вместе и начинают разговаривать (естественно, ей можно дать бесчисленное множество других описаний). Воспринятая таким образом ситуация является ареной, где ничего не рассматривается в качестве само собой разумеющегося и которая создана для совместного творческого исследования и экспериментов. Для Робина простодушие феноменологической точки зрения, отказ от предположений, является отправным пунктом, который укоренен в классической теории гештальт-терапии. Употребление обычного слова «ситуация» в качестве основополагающего теоретического понятия психотерапии на первый взгляд может показаться слишком простой идеей для дисциплины, традиционно приверженной сложной терминологии. Но то, как Робин фактически его употребляет, делает его сильным и сложным понятием; он достигает этого в своих последних текстах тем путем, который можно проследить на протяжении его очерков. Чтобы понять важность этого в полной мере, необходимо увидеть, как он относится к традиционному месту теории поля в гештальт-терапии. Поскольку в гештальт-терапии человеческий опыт понимается как последовательность переходных конструкций, естественно, возникает вопрос: из какого сырого материала сделан опыт, если только мы 28Жан-Мари Робин Бытъ в присутствии другого 29 не хотим прийти к утверждению, что он сфабрикован ex nihilo? (Утверждать это, по-видимому, означает путать феноменологические основы гештальт-терапии с крайним релятивизмом, который отрицает существование чего бы то ни было помимо того, что мы фабрикуем. Ни текст Гудмена, ни его постмодернистская интерпретация Робина не довольствуются солипсической и нигилистической позицией такого рода.) Перлз и Гудмен выдвигают гипотезу, согласно которой то, что существует до опыта, есть «поле организм/ среда» — недифференцированный ландшафт возможностей, который предшествует всякому человеческому контакту, любому явлению self, любому разделению на категории и сущности (как-то self и «другой»). Представление об изначальном единстве как предварительном условии разделения на организм и среду проникло в гештальт-терапию из многих источников, включая холизм Я. X. Смутса и Курта Гольд-штейна (тот и другой глубоко повлияли на Перлза), интеракционистскую социальную психологию Дьюи и теорию поля в социальных науках Курта Левина. В том мере, в какой теория поля десятилетие назад доставила рамки теоретической рефлексии в области гештальт-терапии, она помогла отойти от индивидуалистической тенденции позднего Перлза и уделить большее внимание среде и отношению. Вместе с тем поле организм/среда, которое пахали, должно быть, слишком усердно, стало обнаруживать признаки исчерпания. Подобно понятию self, оно превращается в абстракцию. Отчасти мы обязаны этим влиянию Левина. До того, как обратиться к социальным наукам и психологии, Левин был физиком. Он извлек свои идеи из теорий электромагнитного поля и квантовых полей: эти понятия были попыткой объяснить воздействие целого на часть и части на це- лое, включая такие значительные дистанции, которые делали далеко не очевидным понимание того, каким образом части и целостности могут быть связаны между собой. Теория поля стала революцией в физике, однако она является абстракцией очень высокого порядка, в частности, когда прилагается к человеческому поведению. Так, в теории поля современной гештальт-терапии преобладает тенденция к замещению драмы индивидов, которой является человеческое существование, большими абстракциями, которые, по-видимому, весьма далеки от того, чем занимаются психотерапевты на самом деле. В своих собственных сочинениях Робин часто поднимает вопрос поля организм/среда как теоретического понятия. Многие из его очерков (вошедших как в эту книгу, так и в предыдущую) демонстрируют растущую неудовлетворенность автора идущей от Левина наклонностью к абстракции, а также тенденцией чересчур доверять рассмотрению отдельного организма, которая плохо согласуется с холистическими началами гештальт-терапии и которую можно свести к тому, что Робин называет «психологией одного лица» (кажется, невероятно трудно помешать соскальзыванию психологической теории к этому упрощенному представлению о закрытом в себе индивиде; эта трудность, вероятно, восходит не к человеческой природе, а обусловлена западной интеллектуальной традицией). Столь же показательно, что с недавних пор Робин вернулся к тексту Перлза и Гудмена, дабы найти в нем серию отсылок к «ситуации». На этой основе он разработал альтернативный и более конкретный вариант описания психотерапевтической сессии как особой разновидности поля, в котором участвуют двое. Робин демонстрирует замечательный пример внимательного отношения к тому, как люди вступают в 30Жан-Мари Робин контакт со своим собственным миром как психологическим элементарным фактом, который служит основой для всякого оформления опыта, включая опыт отношений. Он рассказывает историю одной пациентки, которая жаловалась на то, «как она устала от назойливости своих детей и внуков, которые завладели ее жизнью и загонят ее в гроб»: «Кончался прекрасный летний день, и яркий луч солнца упал на лицо дамы и ослепил ее. Но дама, кажется, этого не заметила... Достаточно было отодвинуть кресло на несколько сантиметров в сторону, чтобы избавиться от солнца, которое заставляло даму строить ужасные гримасы» («От поля к ситуации»). Этот пример, кроме того, замечательно показывает, как терапевт может использовать то, что есть в ситуации. Преобразование «поля» в особую терапевтическую ситуацию — впечатляющее достижение, ибо оно вновь феноменологически укореняет теорию поля в реальной практике психотерапии. Это также разница изображения, подобно тому, как топографическая карта отличается от фотографии окрестностей. То и другое имеет свое употребление. Все зависит от того, что мы ищем. Однако мне кажется, что фотография гораздо полезнее для психотерапевта, как, впрочем, для любого исследователя человеческой природы. Робин не плавает в космических абстракциях и не тонет в индивидуалистической модели. Ему удается построить теорию, которая воссоздает терапевтическую сессию как сцену единственной и непредвиденной драмы человеческого существования. |
