Маркович Человек в романах Тургенева. Монография представляет собой типологическое исследование романов И. С. Тургенева 50х начала 60х годов. Автор поновому освещает своеобразие поэтики и проблематики романов Рудин
 Скачать 0.91 Mb. Скачать 0.91 Mb.
|
|
12 венна позиция внешнего наблюдения {или достаточно высокая степень приближения к ней). А приближение к позиции внешнего наблюдения затрудняет прямое проникновение в переживания персонажей. Легко заметить, что в диалогических сценах_ романов Тургенева оно значительно реже и значительно поверхностнее, чем в повествовательном рассказе или обобщенных характеристиках. Действуют здесь и менее заметные ограничения прямого психологического анализа. Повествователю «легче» всего в таких ситуациях, когда «открыт» лишь один из участников сцены, остальные же показаны извне. Иначе обстоит дело в сценах, где необходимо раскрыть переживания нескольких персонажей. Разница еще невелика, если это переживания совершенно {или хотя бы в основном) одинаковые: такова, например, ситуация в сцене первого появления Рудина в «салоне» Ласунской {6, 262, 264). Однако положение существенно усложняется, когда переживания различных участников сцены не совпадают. Тогда для перехода от переживаний одного к переживаниям другого требуются особые условия (исключения, разумеется, можно найти, но они лишь оттеняют это правило). В одних случаях на помощь должен прийти композиционный «стык», обозначенный появлением нового лица.' Так, в сцене, живописующей «завоевание» дома Калити-ных женой Лаврецкого, первоначально открыты только ощущения и мысли хозяйки .дома, лишь появление Лизы позволяет повествователю приоткрыть ощущения Варвары Павловны (7, 254—259). В других случаях характеристика несовпадающих переживаний нескольких персонажей должна сконцентрироваться в относительно обособленной повествовательной вставке, композиционно выделенной как формой, так и тоном изложения. Примером может служить сцена любовного объяснения Елены и Инсарова в заброшенной часовне (8, 93—94). В некоторых случаях переход может состояться и без этих «лодспорий», но тогда для него необходим хотя бы временной интервал (не слишком короткий и заклю- 13 чающий в себе какую-то перемену ситуации).. Так строится-сцена свидания тех же героев на квартире Инсарова, сцена, где ракурс восприятия происходящего сначала приближен к ощущениям Инсарова, ожидающего Елену, а затем удаляется от героя, позволяя в решающий момент приобщиться к ощущениям героини (8, 126—131). Так строятся и другие сцены того же типа. Затрудненность анализа, одновременно проникающего в переживания нескольких лиц, обязательная связь такого анализа с определенным кругом композиционных приемов ощутимо ограничивают возможности повествователя внутри тургеневской диалогической сцены. Но вот перед нами ситуация, когда диалогическая сцена по существу перестает быть диалогической. Все знакомые нам ограничения при этом сразу же теряют силу. «Скоро появилась сама Одинцова в простом утреннем платье. Она казалась еще моложе при свете весеннего солнца. Аркадий представил ей Базарова и с тайным удивлением заметил, что он как будто сконфузился, между тем как Одинцова оставалась совершенно спокойною, по-вчерашнему. Базаров сам почувствовал, что сконфузился, и ему стало досадно. «Вот тебе раз! Бабы испугался!—подумал он и, развалясь в кресле не хуже Сит-никова, заговорил преувеличенно развязно, а Одинцова не спускала с него своих ясных глаз... Одинцова сидела, прислонясь к спинке кресел, и, положив руку на руку, слушала Базарова. Он говорил, против обыкновения, довольно много и явно старался занять свою собеседницу, что опять удивило Аркадия. Он не 'мог решить, достигал ли Базаров своей цели. По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления: оно сохраняло одно и то же выражение, приветливое, тонкое; ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты' посещения подействовало на нее, как дурной запах или резкий звук; но она тотчас же поняла, что он чувствует смущение, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто не упрекнул бы 14 Базарова. Аркадию пришлось в тот день не переставать удивляться. Он ожидал, что Базаров заговорит с Одинцовой, как с женщиной умною, о своих убеждениях и воззрениях: она же сама изъявила желание послушать человека, «который имеет смелость ничему не верить», но вместо того, Базаров- толковал о медицине, о гомеопатии, о ботанике» (8, 269—271). Перед нами переживания разных персонажей. Это переживания совершенно несходные. Но прямая характеристика этих переживаний не доставляет повествователю никаких затруднений. Не прибегая к композиционным разграничениям и не выдерживая интервалов, он прямо, легко и свободно переходит от ощущений одного к ощущениям другого, снова возвращается к ощущениям первого, чтобы затем проникнуть в переживания третьего лица, и, наконец, словно замыкая круг, еще раз открыть читателю то, что чувствует первый. Между прочим, мы сразу узнаем, что переживают в один и тот же момент три разных человека: как смущается и удивляется своему смущению Базаров, как пытается он переломить себя, как в те же самые мгновения недоумевает Аркадий, как неприятно поражена и тут же польщена Одинцова и т. д. И сочетание этих разнонаправленных проникновений так непринужденно, что переходы почти незаметны. Что произошло? Просто в сцене исчез диалог, т. е. 'исчез обмен репликами (заменившись кратким изложением содержания разговора), сопутствующие диалогу ремарки «сдвинулись», и диалогическая сцена превратилась в повествовательный рассказ. Подобные превращения у Тургенева нередки. И каждый раз исчезновение диалога заметно облегчает композиционные переходы, позволяющие широко развернуть прямой психологический анализ. Эта тенденция отчетливо сказывается даже в моменты относительного приближения диалогической сцены к повествовательному рассказу. Уже одно только выборочное воспроизведение реплик диалога (как, .например, в сценах споров Лаврецкого с Михалевичем и с Паншиным в романе «Дворянское гнездо») ощутимо облегчает одно- 15  временное проникновение в переживания разных персонажей. Непринужденность прямого психологического анализа усиливается в других формах повествовательного рассказа, среди которых интересны две разновидности рассказа-обзора. Одна из них — обзор перемен в жизни и отношениях персонажей, совершившихся за более или менее длительный срок —за несколько дней, недель, месяцев, а в эпилогах— даже за несколько лет. Другая — характеристика поведения и душевных состояний персонажей внутри неопределенно короткого отрезка времени. Обе разновидности (будем именовать их впредь долгосрочными и краткосрочными обзорами) типичны для тургеневских романов 50-х — начала 60-х годов. В тех и других обзорах возможно непринужденное проникновение в несовпадающие (и притом одновременные) переживания разных персонажей. Но обращает на себя внимание одна особенность этого проникновения, характерная для краткосрочных обзоров. «Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, -на знакомой постеле, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может, руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного... О себе он не молился. И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задников сменили на его ногах лаковые полусапожки... Он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его 16 лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фе-нечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось робкое дыхание спящего ребенка» (8, 210—211). Состояние Аркадия охарактеризовано достаточно внятно, повествователь даже позволяет себе приобщиться к этому состоянию. О состоянии Николая Петровича говорится прямо, но в несколько неопределенной форме. О переживаниях Павла Петровича повествователь лишь догадывается, да и то косвенным образом, «от противного». Наконец, Фенечка показана с позиции чисто регистрационного описания. Проникновение в душевные состояния персонажей здесь уже явно (и существенно) неравномерное. И неравномерность эта вполне объяснима. В предшествующих главах Аркадий был «открыт» чаще, чем какой-либо другой персонаж, и повествователь проникал в смысл его переживаний глубже, чем в смысл переживаний кого-либо другого. Состояния Аркадия каждый раз характеризовались вполне определенно, так что не оставалось никаких неясностей. Поэтому в обзоре оказывается правомерной такая же «открытость» персонажа и такая же определенность характеристики его состояния. Николай Петрович в предшествующих главах тоже несколько раз оказывался «открытым», но в характеристиках его переживаний присутствовал элемент некоторой загадочности (8, 204). Видимо, оттого и нет определенности в сообщении о его «долгих думах», вызванных приездом сына. Павел Петрович до этого момента был показан только извне — отсюда, как видно, сдержанность его характеристики в обзоре. Наконец, Фенечка до интересующего нас обзора по существу вообще не была показана читателю (читатель лишь знает о ее существовании из диалога отца и сына Кирсановых, да мельком успевает заметить неизвест- 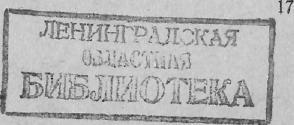 467465 ное ему молодое женское лицо, показавшееся из-за двери в момент приезда Аркадия и Базарова). Не потому ли повествователь не идет в этом случае дальше самой беглой внешней зарисовки? Варианты подобной неравномерности могут быть различными, но общий ее закон достаточно отчетлив: если степень «открытости» персонажей так или иначе колеблется, то степень эта существенно зависит от «освещенности» каждого из них в предшествующих стадиях повествования. В этом отношении краткосрочные обзоры близки к диалогическим сценам, где, как легко убедиться, действует та же закономерность. В долгосрочном обзоре зависимость «открытости» персонажей от их предшествующей «освещенности» проявляется намного слабее и может вовсе отсутствовать. Остановимся, для примера, хотя бы на рассказе о первых двух неделях пребывания Базарова и Аркадия Кирсанова в доме Анны Сергеевны Одинцовой (8, 284—288). Опять-таки повествователь здесь без малейших затруднений проникает в одновременные, но совершенно разные переживания нескольких лиц. Переходы от переживаний одного к переживаниям другого опять-таки чрезвычайно легки и определяются только движением мысли самого повествователя. В то же время глубина психологического анализа здесь уже не зависит от степени «открытости» или «закрытости» персонажа до обзора. До обзора, который мы рассматриваем, переживания Базарова почти никогда не раскрывались прямо (можно насчитать лишь три-четыре минимальные психологические «ремарки» повествователя). И вдруг мы проникаем в глубину душевного состояния героя, причем глубина проникновения почти сразу же достигает максимального предела: открывается главная тайна Базарова — «романтическая» природа его чувства к Одинцовой. Резко возрастает и углубленность анализа переживаний Кати, до обзора характеризовавшихся лишь в самых общих чертах. При этом повествователь сразу же проникает не только за барьер видимого, но и за границы доступ- 18 ного пониманию самих персонажей. Базаров не понимает, отчего ему так легко живется в доме Анны Сергеевны. Анна Сергеевна не понимает, почему ее так взволновало известие о предполагаемом отъезде Базарова. Катя не совсем понимает, чего ищет Аркадий в ее обществе. Аркадий не смеет осознать свою любовь к природе и свой интерес к «пустякам», которые занимают Катю'. А вот повествователь все это пони мает с достаточной для него ясностью и считает воз можным все это объяснить читателю. Отмеченные тенденции могут и не проявиться столь очевидно, однако в романах Тургенева они дей ствуют повсюду. Долгосрочные повествовательные обзоры оказываются «зоной» резкого возрастания композиционной свободы. И прежде всего «зоной» резкого расширения возможностей психологического ана лиза. Нет нужды задерживаться на специальном рассмотрении возможностей, открываемых обобщенно» характеристикой персонажа. Прямое проникновение в его психологию именно здесь зачастую оказывается наиболее глубоким. Чтобы в этом убедиться, можно сравнить толь'ко что рассмотренный обзор, в той части, которая посвящена Одинцовой, с обобщенной характеристикой той же Одинцовой в XVI главе романа. Разумеется, в некоторых случаях «перевес» окажется на стороне динамического повествования. Но, как правило, в пределах обобщенной характеристики прямой психологический анализ все-таки глубже и свободнее, чем в пределах почти любого относительно замкнутого отрезка повествовательного рассказа. В обобщенных характеристиках углубленность и распространенность психологического анализа еще меньше, чем в рассказе-обзоре, зависят от степени «открытости» персонажей в предшествующих главах. Обобщенная характеристика персонажа обычно вводится у Тургенева в начальной стадии рассказа о нем, когда знакомство читателя с персонажем еще главным образом внешнее и довольно поверхностное. Но это не мешает повествователю сразу же проникнуть в коренные особенности психологии этого персонажа 19 и добраться до некоторых конечных мотивов его поведения. Как видим, речь идет о вполне определенной закономерности, характерной для всех романов Тургенева 50-х — начала 60-х годов. Исходные позиции изображения, наиболее типичные' для диалогической сцены, повествовательного рассказа и обобщенной характеристики, по некоторым существенным признакам отличаются здесь друг от друга. Главное из таких отличий — это совершенно разная степень интенсивности и свободы прямого психологического анализа. В конечном счете это разная степень правомерности такого анализа, степень, которая колеблется в зависимости от того, какая из только что названных композиционных форм2 избрана повествователем. Однако при всем том переход от позиции к позиции не требует у Тургенева никаких специальных мотивировок. И сама неодинаковость этих позиций воспринимается как нечто вполне естественное. В чем тут дело? Можно заметить, что изменение установки при переходах от одной композиционной формы к другой связано с определенным «сопутствующим» обстоятельством. Речь идет об изменении отсчета художественного времени, который совершенно различен в диалогической сцене, в повествовательном рассказе и в обобщенной характеристике персонажа. Диалогическая сцена строится, если так можно выразиться, в сиюминутном временном «масштабе». Главным «носителем» этого «масштаба» оказывается диалог. Темп диалога равен темпу реального протекания событий: воспроизведение диалога длится при- 2 Это понятие не претендует на значение термина. Оно вводится как обобщенное определение, позволяющее обойтись (в случае нужды) без конкретного перечня таких явлений, как повествование, описание, характеристика, диалогическая сцена, монолог, письмо персонажа, лирическое отступление повествователя и т. п. 20 мерно столько же времени, сколько реально воспринималась бы соответствующая житейская сцена. Кроме того, реплики диалога неизбежно воспринимаются читателем как -звучащие «сейчас», именно «сию минуту». Это относится и к ремаркам повествователя, указывающим на действие или внутренние состояния участников диалога. В повествовательном рассказе иной темп движения времени, а иногда—совсем иной характер этого движения. В . краткосрочном рассказе-обзоре речь идет о действиях и состояниях неопределенной длительности, не приуроченных к какому-то фиксированному мгновению. Тем более нет конкретных моментов в обзорах долгосрочных: здесь все -представлено в обобщенном временном «масштабе», во многом просто снимающем разграниченность и локализацию охваченных обзором единиц времени. Если в подобном обзоре и появляется единичный факт, то сообщение о нем входит как типичный, «показательный» пример, подтверждающий или предваряющий какой-либо общий тезис. Иначе говоря, ничто здесь не размыкает принятой установки, приближающей обзор к категориям «нравоописательного времени».3 В обобщенной характеристике временной «масштаб» отличается от сиюминутного еще более существенно. Если рассказы-обзоры преодолевают разграниченность только малых единиц времени, растворяя их в единстве временного отрезка большей или неопределенной протяженности, то обобщенная характеристика в сущности вообще не прикреплена к какому-либо из таких отрезков. Введение обобщенной характеристики персонажа означает остановку, своеобразное «выключение» времени действия. И тут уже категории «нравоописательного времени» полностью осуществляют свои права. В обобщенной психологической характеристике тургеневского -персонажа речь идет о свойствах, постоянно присущих его характеру, 3 Характеристику этой формы художественного времени см.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 312—319. 21  о постоянно повторяющихся проявлениях этих свойств в его поведении, иными словами, о явлениях, существующих как бы «над» движущимся временем, «над» локальными и конкретными его отрезками. И опять-таки единичный факт входит в эту сферу обобщений под знаком его типической «показательности». Если даже обобщенная характеристика персонажа переплетается с его предысторией (как характеристика Павла Петровича Кирсанова в том же романе «Отцы и дети», как характеристика Елены Стаховой в романе «Накануне», как характеристики Лизы Ка-литиной, Паншина, Лемма в романе «Дворянское гнездо», как характеристика Пигасова в романе «Ру-дин»), то эта последняя во многом подчиняется типизирующей установке первой. «Нравоописательный» временной «масштаб» торжествует и здесь, и торжествует почти безусловно.4 Такое различие форм «повествовательного времени» {термин В. В. Виноградова) во многом объясняет тот факт, что охарактеризованное выше различие позиций представляется читателю естественным. В этом соотношении установок обнаруживается логика обычного житейского восприятия человека человеком. Наблюдая другого человека в какой-то конкретный момент со стороны, мы обычно чувствуем себя вправе лишь догадываться о том, что в нем происходит. В такой ситуации наши суждения могут претендовать на безоговорочность лишь в той мере, в какой они фиксируют видимое и явное. Больший срок наблюдения дает основание для суждений более уверенных и далеко идущих. Дает уже потому, что больший срок доставляет нам больший материал для выводов и оценок. «Я достаточно давно его знаю», — вот едва ли не самый употребительный аргумент в тех случаях, когда требуется обосновать право одного человека судить о другом. И уж конечно еще более 4 Этот «масштаб» преодолевается лишь в той мере, в какой «показательные» примеры создают зримые образы событий. Зримый образ всегда выходит за пределы типизирующей установки изображения и создает ощущение конкретной протяженности происходящего во времени. 22 уверенными и далеко идущими оказываются наши выводы, обоснованные наблюдением над всей жизнью этого человека. Такая логика как раз и определяет в романах Тургенева сущность любой из позиций повествователя по отношению к персонажам. По своей сухи это всегда позиция «другой» единичной личности, способной понять (и понимающей) данную единичную личность в пределах обычных житейских возможностей. И поскольку эта «другая» личность никак не конкретизирована, пределы ее возможностей достаточно универсальны. Разумеется, все это помножено на разницу между наблюдательностью житейской и наблюдательностью художественной, но житейские возможности приняты здесь за основу. Сталкиваясь с конкретной сиюминутной ситуацией, повествователь оказывается в положении наблюдателя, имеющего право только констатировать видимое и угадывать, что за ним кроется. В повествовательном рассказе (в обзоре особенно) он уже получает право говорить тоном человека, успевшего post factum во всем разобраться. Это право на уверенность и далеко идущие выводы о внутренней жизни персонажей. Такое право обеспечивается и временной протяженностью повествовательных обзоров, и ретроспективной позицией повествователя, и обобщенностью действующего здесь отсчета времени (о чем шла речь выше). В обобщенной характеристике подобные же основания позволяют повествователю говорить о персонаже на правах, аналогичных правам давнего знакомца, имевшего возможность наблюдать этого человека на протяжении всей его жизни, предшествующей событиям рассказа. Или, во всяком случае, достаточно долго для того, чтобы получить основание судить об устойчивых свойствах его характера и постоянно действующих мотивах его поведения. Таким образом, позиции, которые на первый взгляд выглядят различными, по существу оказываются лишь естественными модификациями одной и той же позиции повествователя, модификациями единой внут- 23 ренней логики изображения человека, конкретно — модификациями позиции и логики лица, оценивающего и понимающего персонажей романа на уровне возможностей, подобных возможностям каждого из них. Превосходство повествователя над персонажами обеспечивается только его освобождающей неопределенностью и еще больше — его внесюжетным положением: оно дает повествователю право на свободу перемещений в художественном пространстве и в художественном времени романа, на свободный выбор ракурса восприятия в каждый момент повествования, наконец, на ретроспективное (речь ведь идет о прошлом) знание всех фактических «обстоятельств дела». С технической стороны ничем не ограниченный, ничем заранее не связанный, повествователь пользуется своей свободой с неожиданной умеренностью. Он ограничивает себя сам и очень существенно, устанавливая чисто смысловое обоснование норм дозволенного и недозволенного.5 Принятая повествователем установка не осуществляется с абсолютной строгостью. При последовательном ее осуществлении сиюминутные психологические объяснения правомерны лишь в форме догадки. Между тем во многих диалогических сценах романов Тургенева мы обнаруживаем объяснения сиюминутные, но при этом безоговорочные. Принцип, казалось бы, нарушен, однако при внимательном рассмотрении нарушение оказывается чисто внешним. Отсутствие оговорок изменяет формальный статус психологического объяснения, но в сущности не уве- 5 Связь с обычными возможностями «другого» человека — источник специфической убедительности объяснений повествователя. Г. А. Бялый справедливо замечает, что, за исключением некоторых необходимых условностей (вроде способности повествователя «видеть» то, при чем он не присутствовал), «все остальное в тургеневском психологическом анализе как бы поддается проверке». —См.: Бялый Г. А. Тургенев и русский реализм. М. — Л., 1962, с. 89. 24 личивает его глубину и не отрывает его от обычных в подобных случаях фактических оснований. Варианты объяснений такого рода могут быть различными. В одном случае основание для безоговорочной психологической «ремарки» дают смежные с ней реплики диалога (напр.: 6, 282; 7, 146, 236). В другом таким основанием оказывается поступок персонажа, имеющий какой-то вполне очевидный смысл (7, 197, 259). В третьем случае основанием могут служить мимика или жестикуляция изображаемого человека, выдающие его внутреннее состояние (6, 308; 7, 136, 260; 8, 111). Наконец, возможны случаи, когда нет ни того, ни другого, ни третьего, но когда сама ситуация, возникшая в движении диалогической сцены, делает внутреннюю реакцию персонажа самоочевидной (6, 281, 324; 7, 283; 8, 42, 65). Во всех этих случаях перед нами то, о чем в принципе догадался бы каждый. Поэтому догадка свободно может присвоить себе права подлинного знания. Иногда в диалогических сценах встречаются и более глубокие безоговорочные объяснения, проникающие за пределы того, о чем позволяют судить сиюминутные фактические основания. Но в подобных случаях объяснение, как правило, подготовлено предшествующим накоплением фактических данных и тем самым оправдано. Опять-таки действует логика позиции, основанной на обычных возможностях и обычных правах «другого» человека. Такая позиция оказывается вездесущей. Она наиболее органична для тургеневского повествователя, и он почти неизменно верен ее внутренней логике, принимая все вытекающие из нее ограничения. Их-то и следует рассмотреть особо. Избранная повествователем позиция не только изменяет его права при переходах от одной композиционной формы к другой, но и обязывает к общему ограничению возможностей прямого объяснения и прямой оценки персонажей. Специфику психологических объяснений тургеневского повествователя наглядно показывает следующий пример. Речь идет об Анне Сергеевне Одинцо- i 25 вой: «Она до обеда не показывалась и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее «добиваться», по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь... «Я виновата, — промолвила она вслух,—но я это не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней... «Или?» — произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями... Она увидела себя в зеркале; ее назад закинутая голова с таинственною улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась... «Нет,-—решила она, наконец, — бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете». Ее спокойствие не было потрясено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленною: она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее — и увидела за ней даже не бездну, а пустоту... или безобразие» (8, 299— 300). Действие законов повествовательного рассказа дает повествователю право на прямое и безоговорочное проникновение в переживания героини. И он ^исполь-зует это право. Однако между героиней и повествователем все время сохраняется дистанция. В определенный момент анализа намечается оттенок приближения к ее точке зрения, но это именно оттенок, не больше. Повествователь вне того, что переживает Одинцова. Поэтому он словно не может начать свой рассказ о переживаниях героини прямо с объяснения этих переживаний. Он должен сначала опереться на 26 данные внешнего наблюдения, которые свидетельствуют о том, что Одинцова взволнованно вспоминает случившееся, пытаясь понять себя, Базарова, и вообще всю создавшуюся ситуацию. Уже после этого становится возможным проникновение в ее воспоминания и размышления, направление которых угадать нетрудно. Затем следуют новые наблюдения и новое проникновение в состояние героини. Опора на фактические данные необходима повествователю все время. Таков общий закон тургеневского психологического анализа: этот закон действует не только в диалогической сцене, но и в любых формах повествовательного рассказа (включая долгосрочные обзоры), а также в обобщенных характеристиках, всегда включающих фактические сведения о биографии или, во всяком случае, о поведении персонажа. Прямой психологический анализ либо входит как объяснение фактического материала, доставляемого наблюдением, либо подтверждается, иллюстрируется, конкретизируется материалом подобного рода. Всем этим обозначен ясный предел принципиальных возможностей прямого анализа. Исходящие от повествователя психологические объяснения не могут уходить слишком далеко от внешних проявлений душевной жизни персонажен и никогда не могут полностью оторваться от связи с позицией объективного наблюдения. Очевидно и другое существенное ограничение — в некоторых случаях оно подчеркивается специально. Вот, например, характеристика переживаний Николая Петровича Кирсанова: «Сердце его забилось... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал бы ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости — сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений—и то неясных» (8, 214). Неясное для самого персонажа признается неясным и для повествователя: если персонажу трудно определить природу своих ощущений, то повествователь чувствует себя обязанным остановиться в таком же затруднении. Может 27 быть, наиболее отчетливо (хотя и не без шутливого оттенка) формулируется эта установка в «ремарке», прерывающей диалог Базарова и Одинцовой в XXV главе того же романа: «Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров; они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда, в их словах? Они сами этого не знали, а автор и подавно» (8, 372). Граница рационального самопонимания персонажа оказывается тем пределом, дальше которого объяснения повествователя, в принципе, не должны углубляться. При этом «точкой отсчета» служат возможности сознания, не склонного к напряженной интроспекции и рефлексии — эти свойства чужды любому из персонажей первых четырех романов Тургенева. Рефлексия, в смысле психологического, а не нравственно-философского самоанализа, не свойственна даже Рудину, в этом его отличие от Чулкатурина или Гамлета Щигровского уезда.6 Таковы исходные позиции изображения человека, принятые в первых четырех романах Тургенева. Открытые ими перспективы естественно суммируются и соединяются в целостную систему, законами и возможностями которой определяются права повествователя на объяснение внутренней жизни персонажей. Ограниченность этих прав ясна. Но важно установить, в каком направлении действуют ограничения и каков объективный результат их действия. Объяснение Рудина с Натальей у Авдюхина пруда оказывается своеобразным испытанием, определя- 6 Разумеется, и непременная связь психологического анализа с данными объективного наблюдения, и ограничение глубины этого анализа пределами самосознания персонажей осложняются у Тургенева исключениями. Некоторые их разновидности повторяются устойчиво (т. е. в известном смысле тоже являются нормой). К сожалению, в рамках публикуемой работы нет возможности рассмотреть этот интересный аспект поэтики Тургенева. 28 ющим оценку героя. Но ситуация такова, что оценка здесь просто невозможна без проникновения в переживания Рудина, без расшифровки их смысла. Сцене предшествует психологический комментарий повествователя. Повествователь дает понять, что чувство Рудина к Наталье — не любовь. Он приоткрывает в то же время противоречивость душевного состояния героя и объясняет ее ссылкой на универсальный закон: «Никто так легко не увлекается, как бесстрастные люди» (6, 321).7 Много ли проясняет эта формула в конкретной ситуации, с которой мы сталкиваемся? Ясно, что увлечение Рудина — чувство искреннее, по-своему естественное, но вместе с тем неполноценное в самой своей основе. Ясно, что все это связано с какой-то чисто человеческой ущербностью Рудина. Но, собственно, это и все, что нам ясно. И все, что мы поняли, превращает чувство Рудина в загадку, которую необходимо разгадать. Необходимость эта тем более настоятельна, что общая человеческая ущербность Рудина тоже не может остаться необъясненной. Исследователи давно и справедливо подметили в первом романе Тургенева черты схематизма.8 Однако черты эти все-таки не помешали «Рудину» быть произведением искусства. В той мере, в какой это справедливо, образ главного героя не сводится к сумме разнородных черт и в принципе не может к ней сво- 7 Ссылки на универсальные законы человеческой природы, напоминания о существовании таких законов — важная особенность романов Тургенева. Принципиальное значение этой особенности раскрыто еще в работе В. М. Фишера «Повесть и роман у Тургенева» (в кн.: Творчество Тургенева. М., 1920, с. 34—35). Функции подобных ссылок многообразны. Довольно часто они служат своеобразным комментарием к психологическим объяснениям, не выходящим за пределы обычной нормы. Но они же оказываются убедительным обоснованием для внезапных превышений этой нормы, обоснованием права повествователя понимать переживания персонажа глубже, чем он сам их понимает, и одновременно — обоснованием права выйти за пределы фактических данных, на которых фиксируется или раньше фиксировалось внимание повествователя. н Схематичность построения романа «Рудин» отмечена еще М, К. Клеманом в его книге «И. С. Тургенев» (Л., 1936, с. 83). 29  д/ BJ Р не наделен никакими сверхъестественными свойствами. Он исходит из чисто человеческой меры понимания жизни и людей, открыто опирается на свой человеческий опыт и может соизмерять диапазон своей осведомленности с естественной ограниченностью отдельного человеческого сознания. Как и в романах Тургенева, повествователь может оказываться в поло-женин постороннего наблюдателя, который не имеет права знать наверняка, что думают или чувствуют персонажи в данный момент действия. А превышение этих возможностей в обобщенных характеристиках тех же персонажей, как и у Тургенева, может быть оправдано подобием обычны-х прав «давнего знакомца». Наконец, в романах Толстого немало самых различных ситуаций, когда повествователь уравнивается в правах с действующими лицами, когда связывающие их ограничения распространяются и на него.9 Словом, проницательность и осведомленность повествователя и здесь могут упираться в уже знакомые нам пределы. Но секрет толстовской манеры в том, что пределы эти необязательны, и повествователь всегда обладает правом с ними не считаться. В частности, он совершенно свободно проникает в любое сиюминутное переживание персонажа, докапываясь до глубинных первоисточников этого переживания и предельно проясняя его природу. Механизм «глубинного» толстовского анализа основан на психологическом отождествлении повествователя с персонажем. Так обстоит дело во множестве тех случаев, когда повествователь как бы исчезает и повествование ведется с субъективной точки зрения одного из действующих лиц. Та же закономерность действует и в ситуациях, когда повествователь анализирует внутреннюю жизнь персонажей от своего лица. Повествователь исходит при этом из собственного опыта, откровенно проецируя его на изображаемого человека. Иными словами, судит о персонаже по ана-у - с. 146. См.: Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970, , логии с самим собой, как бы ставя себя на его место.10 Приближение к подобной позиции возможно и в романах Тургенева: она может наметиться здесь даже в диалогической сцене. В сцене такого типа11 пространственная позиция повествователя максимально приближается к ракурсу зрения одного из ее участников. Эта установка ставит действующих лиц в неравное положение, которое сказывается и на характере их психологической обрисовки. Персонаж, чье положение в пространстве определяет зрительную «перспективу» построения сцены, оказывается ее единственным участником, иногда освещаемым «изнутри». В некоторых ситуациях читателю могут прямо открываться его мысли, чувства и побуждения, тогда как остальные участники той же сцены показываются только «извне», через их слова и поступки. И как ни редки моменты такого освещения персонажа, как ни ограничена в эти моменты глубина проникновения «вовнутрь», они все же придают изображению определенный «крен» в сторону «открытого» участника сцены, в сторону его субъективного восприятия. Такие же принципы и способы приближения к «внутренней» точке зрения персонажа можно заметить и в повествовательном рассказе. Но в особых композиционных условиях повествовательного рассказа такое приближение способно обернуться полным психологическим отождествлением повествователя с действующим лицом. Моменты подобного отождествления можно заметить в романе «Дворянское гнездо», в рассказах повествователя о переломных ситуациях в жизни Лаврецкого (гл. XVIII, XX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XLIV, эпилог). Они не раз встречаются и в романе «Накануне», в рассказах о переживаниях Бер- 10 О значении этого принципа в эстетике Толстого см.: Купреянова Е Н. Эстетика Л- Н. Толстого. М.—Л., 1966, с. 118. 11 См., напр.: 6, 281—283, 290—291; 7, 196—197, 218—222, 236—237; 8, 27—31, 36—39, 45—48, 50-^53, 64—68, 98—101, 256— 264, 265—269, 302—304, 318—321, 373—380 и др. |
