Маркович Человек в романах Тургенева. Монография представляет собой типологическое исследование романов И. С. Тургенева 50х начала 60х годов. Автор поновому освещает своеобразие поэтики и проблематики романов Рудин
 Скачать 0.91 Mb. Скачать 0.91 Mb.
|
|
42 читателя, притом затруднены почти в одинаковой мере. Моменты отождествления читателя с героем здесь вполне допустимы. Но такие моменты лишь поддерживают диалогизм их отношений, делая невозможным внутренее отмежевание читателя от идущего в романе спора. -С другой стороны, нацеленность героя на полемику с любым чужим сознанием не позволяет отождествлению зайти сколько-нибудь далеко, рождая напряженность читательского отношения к героям Достоевского. Это реакция человека, живо задетого .чем-то таким, что имеет прямое отношение к его внутреннему опыту. Но вместе с тем источник такого воздействия воспринимается как внешний, а само оно — как покушение на человеческое спокойствие, как вызов воспринимающему. И уклониться от вызова практически невозможно: герой держит читателя в неослабевающем диалогическом напряжении. Получается, что разные пути ведут к близким целям. И Достоевский, и Толстой стремятся довести до максимального предела интенсивность и действенность прямого контакта между героем и читателем. А вот Тургеневу чужды оба направления, ведущие к активизации «партии» героя. В атмосфере противопоставления общей истины и субъективных правд сдержанность повествователя подчинена иным задачам. «Партия» героя и здесь получает относительную независимость, эта независимость ощутимо выражается в ограниченности диапазона объективных объяснений, в сдержанности оценок, в существовании принципиальных умолчаний и частичных недомолвок, не допускающих расшифровки многих душевных движений героя.26 Ограничение «партии» повествователя и здесь освобождает поле действия для внесубъект-ной авторской активности, и она широко развертывается в романах Тургенева. Но скрытая авторская активность не становится здесь фактором, стимулирующим диалогические или взаимно сопричастные 26 О значении умолчаний в тургеневском повествовании см.: Батюто А. И. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 200—203. 43 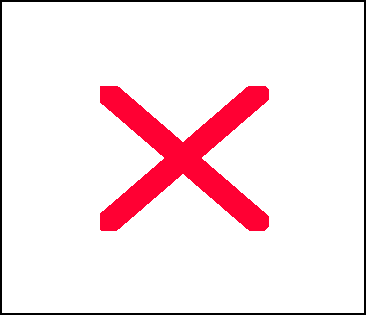 отношения между героем, повествователем и читателем. отношения между героем, повествователем и читателем. И7Овсянико-Куликовскнй Д. Н. Этюды о творчестве И. С. Тургенева. Харьков, 1896, с. 225. Разделенность субъективного и объективного исключает такие отношения. Пробелы, оставленные объяснениями повествователя, заполняются не самосознанием героев (оно —вне общезначимой истины), а всецело объективным материалом их сюжетных действий, высказываний и связей. И .каждый раз формируется твердый образ героя, входящий в сознание читателя как данность. В конце концов становится возможным завершающее объективное мнение о представшем перед нами человеке, сложное и диалектически противоречивое, но определенное, устойчивое и ясное. Внутренний контакт с героем при этом не возникает. Напротив, такой способ понимания изображаемого создает ощутимую дистанцию между повествователем и героем, между героем и читателем. В свое время Д. Н. Овсянико-Куликовский проницательно отметил оттенок отчужденности, временами непременно возникающий в отношении читателя к Лизе Калитиной. Исследователь связывал этот оттенок не только с нравственным содержанием позиции героини, на его взгляд, недосягаемо высоким для рядового человека. Не меньшее значение придавалось способу построения образа, избранному Тургеневым. «В Лизе он скуп на анализ, на пояснения больше, чем где-либо. В смысле мастерства, смелости, уверенности, ловкости и силы в преодолении трудностей образ Лизы от этого только выигрывает: это одно из самых совершенных созданий -искусства. Но в смысле доступности образа пониманию читателя, в смысле его близости уму и сердцу последнего, он, несомненно, „теряет"».27 Можно было бы прибавить, что замена анализа рисунком увеличивает не только выразительность, но и психологическую глубину образа Лизы. Смысл ее переживаний оказывается для нас бесконечным и неисчерпаемым именно вследствие этой замены. Однако в главном Овсянико-Куликовский был прав. Более того, сказанное им о Лизе отражает общий закон поэтики Тургенева, наиболее явно,действующий в построении центральных образов тургеневских романов. Рудин и Базаров, Лиза и даже Елена — все они поначалу отдалены от нас своей загадочностью. В дальнейшем, по мере развития сюжета, их главные тайны раскрываются, недоговоренность восполняется, однако «далекость» их образов так и не исчезает. Образ всякий раз продолжает существовать как бы отдельно от достигнутого нами понимания, обладая по отношению к нему самостоятельностью внешнего факта. Расшифровка не объясненного повествователем часто очень легка, но необходимость догадываться о самом главном по намекам и косвенным данным устойчиво сохраняет дистанцию. Поэтому героев Тургенева трудно воспринять как интимно близких нам. Мы лишены возможности почувствовать совпадение их переживаний с тем, что переживаем сами. Понимание родства между их и нашим душевным опытом иной раз даже приходит. Но приходит не как непосредственное ощущение, а как рациональный вывод или как догадка, предполагающая в качестве предпосылки какое-то аналитическое усилие. Не меняет существа дела и лирический контакт читателя с героями, возникающий в отдельных сюжетных ситуациях. Такой контакт не идет, дальше легкого эмоционального соприкосновения. А оно создает особую атмосферу, зыбкую, способную мгновенно рассеяться и потому обязывающую к осторожности и сдержанности. Словом, моменты эмоционального сближения повествователя, героя и читателя скорее препятствуют погружению в глубины изображаемого, чем ведут к такой цели. Тургеневские герои для читателя всегда на дистанции, всегда вне .его собственного мира — удивительные, иногда вызывающие преклонение (и даже подражание), но всегда хотя бы отчасти чужие и чуждые. Выходит, что ограничение прав и возможностей повествователя приводят у Тургенева к необычному для русского романа художественному эффекту: обузды- 45 вая себя, повествователь тем самым обуздывает и героя. Вернее, происходит взаимообуздание двух разделенных и противопоставленных величин. И таким образом достигается их равновесие, а в конечном счете, их художественное единство.. 7 Показательно, что такое же взаимообуздание противоположностей отчетливо проявляется и в сюжетном строении тургеневских романов. Здесь тоже легко обнаружить полярные (и в сущности противопоставленные) тенденции, взаимно ограничивающие и тем уравновешивающие друг друга. Одна из противоположных тенденций выражается в широком использовании обобщенных характеристик персонажей, предшествующих у Тургенева динамическому раскрытию их характеров. В этом сказывается еще одно принципиальное отличие тургеневской поэтики от законов художественной системы Толстого. У Толстого персонаж сразу же ставится в конкретные жизненные ситуации и сразу же втягивается в подвижное взаимодействие с другими. Он раскрывается именно в процессе общения с другими персонажами — в эпизодах, сценах, в «картинах жизни».28 Образ развертывается как бы «сам собой», без прямого вмешательства автора и без каких-либо заметных усилий с его стороны. Сразу же создается полная иллюзия непроизвольного хода жизни, за который повествователь не отвечает. Аналитическая и оценочная активность повествователя может простираться как угодно далеко, но движения сюжета она не касается. Движение сюжета как бы предшествует этой активности, поставляя необходимый для нее материал. Поэтому персонаж Толстого почти всегда предстает перед читателем в каких-то конкретных проявлениях: перед нами его единичное переживание, действие, устремление, какой-нибудь момент его взаимо- 28 См.: Билинкис Я. С. Картины жизни и история. — «Вопросы литературы». 1964, № 5, с. 117—118. 46 отношений с другими людьми. По той же причине толстовский персонаж всегда подвижен, изменчив, текуч. Конечно, его текучесть имеет предел. Л. Я. Гинзбург справедливо напоминает о том, что «Толстой мыслил не только процессами, но и свойствами... В персонаж как бы заложена схема... скрытая индивидуальным наполнением». Но при этом справедливо подчеркивается и другое: «Толстой, пользуясь схемой, одновременно ее оспаривает».29 Устойчивость и текучесть изображаемого сочетаются у Толстого неразрывно, из их ежеминутной соотнесенности рождаются характеры персонажей. Совсем иначе строятся образы персонажей Тургене^ ва. Обычно после самой минимальной подготовки30 вводится прямая описательная характеристика изображаемого человека:-Иногда персонаж даже не успевает стать действующим лицом в точном смысле этого слова, а такая характеристика ему уже дана. Повествователь статично и обобщенно описывает его внешность, поведение, психологию, образ жизни, бытовое окружение и т. п. Часто при этом сжато рассказывается его предыстория. Стоит обратить внимание на некоторые особенности таких характеристик. Прежде всего они вводятся «Произвольно», не в соответствии с логикой саморазвития действия, а по усмотрению повествователя. Другой мотировки нет, отсюда необходимость его прямых обращений к читателю, о которых говорилось в начале главы. Отдельные слагаемые характеристики вводятся и группируются столь же «произвольно»: повествователь может дать их все вместе {характеристика Елены Стаховой), может и разделить повествовательными или событийными интервалами (характеристика Одинцовой дана отдельными частями на протяжении нескольких глав). Характеристика может быть дана в самый момент появления персонажа (так вводятся, 29 Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971, с. 319—320. 30 Подробнее об этом см.: Курляндская Г. Б. Художест венный метод Тургенева-романиста, Тула, 1972, с. 259—260. 47 например, характеристики Пандалевского, Басистова, Увара Ивановича Стахова, Марьи Дмитриевны Кали-тиной), но может и предшествовать его появлению (как, например, характеристика Николая Артемьевича Стахова). Наконец, характеристика может быть введена значительно позже, уже в кульминационной стадии развития сюжета (так вводится предыстория-характеристика Лизы Калитиной). И всякий раз выбор варианта ничем, кроме усмотрения повествователя, не мотивирован. От этого зависит и внутреннее строение характеристики, состав и способ сочетания ее слагаемых. Выбор «показательных» эпизодов, переходы от фактов к обобщениям и обратно, общин порядок подачи материала, соотношение частей — все здесь прямо и открыто определяется соображениями повествователя о том, что и в какой степени важно. Организующее вмешательство повествователя в подобных ситуациях выглядит оправданным: ведь обобщенная характеристика — это всегда в той или иной степени искусственное построение. Она всегда готова рассмотреть и в известных пределах всегда рассматривает характер как сумму черт, безотносительно •к конкретным ситуациям и формам их проявления. В какой-то степени характеристика неизбежно абстрактна: конкретный материал входит в нее уже «усмиренным», в качестве иллюстраций к тезисным определениям. Отчасти это имел в виду Толстой, говоря, что человека описать нельзя. А Тургенев именно описывает: в его романах повествователь «от себя» выделяет, определяет и комбинирует наиболее важные, с его точки зрения, элементы характера персонажа. И все это на правах законченного представления о человеке, как будто речь идет о чем-то окончательно и навсегда сложившемся, о чем-то уже готовом.31 31 Именно к предварительным характеристикам б наибольшей степени применим вывод Б. И. Бурсова, что «Тургенев берет человека как сложившуюся данность».— См.: Бур сов Б. Лев Толстой. Идейнее искания и творческий метод. М., 1961, с. 446. 48 Правда, в составе характеристики часто есть динамический элемент — биография. Однако ее динамика подчиняется структурным законам характеристики и принимает своеобразные формы. Довольно типичен такой вариант, когда в предыстории персонажа событийные сдвиги не оборачиваются психологической динамикой. С внешней стороны жизнь Пандалевского меняется несколько раз: он воспитывается в Белоруссии, «на счет благодетельной и богатой вдовы», устраивается на службу при помощи Другой вдовы, наконец, поселяется в доме Дарьи Михайловны Ласунской «в качестве приемыша или нахлебника». Но характер человека при любых поворотах остается тем же самым: все перемены обеспечены одними и теми же свойствами, причем не обозначено ни становление этих свойств, ни их эволюция. Иной раз эволюция черт характера может быть намечена, но ракурс ее изображения в этих случаях особый. Например, в предыстории Пигасова показано, как формируется, растет и, наконец, принимает почти маниакальную форму его озлобленность «противу всего и всех». Однако динамика характера дана как предпосылка его статического состояния — того, в котором он пребывает сейчас и которое характеризуется как постоянное и неизменное. «Он бранился с утра до вечера, иногда очень метко, иногда, довольно тупо, но всегда с наслаждением... Он доживал свой век одиноко, разъезжая по соседям... и никогда книги в руки не брал» (6, 248—250). А разве не таков же ракурс, в котором изображается эволюция характера Лизы? Ведь и ее предыстория подводит к описанию стабильного состояния, внутри которого нет как будто бы никаких задатков перемены. «Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности...» (7, 243—244). Итог эволюции характера Лаврецко-го — совсем иное, но тоже стабильное состояние: «Скептицизм, подготовленный опытами жизни, воспитанием, окончательно забрался в его душу. Он стал очень равнодушен ко всему (7, 178). Итог эволюции 49 характера Елены — состояние напряженно-противоречивое. Это непрестанное чередование душевных гроз и тягостных затиший. Но сама устойчивая повторяемость взлетов и падений говорит об их равновесии, обнаруживая момент неподвижности в бурной динамике психологических переходов. В общем, предыстория обычно нацелена на итог и таким итогом обычно является статическое состояние изображаемого — характера персонажа, механизма его поведения, его взаимоотношений с окружающим миром. Характеристики и предыстории обозначают комплекс объективных воздействий, участвующих в формировании характера. Обычно выделяются несколько групп воздействующих на личность социальных факторов. Прежде всего это воздействие первоначального воспитания, затем в юности и в ранней молодости— влияние различного рода философских, нравственных, социальных идей, далее — воздействие постоянных условий социального положения и окружения персонажа и, наконец, влияние разиообраз-. ных житейских случайностей. Все эти факторы выступают у Тургенева в ощутимо типичном, легко узнаваемом воплощении, с четкими приметами места и времени. Не менее четко обозначена в пред-ысториях-характеристиках направляющая роль этих факторов в становлении человеческой психо-' логии и поведения. Направляющая роль типических обстоятельств акцентируется не только в характеристиках персонажей уровня Пигасова. В пределах экспозиционного «слоя» тургеневских романов даже исключительность ставится в . зависимость от обстоятельств. Например, внутренняя самостоятельность Лизы и Елены отчетливо связана в их характеристиках с особенностями их воспитания — слабостью нравственного воздействия семьи, равнодушием родителей, ранним вторжением инородных влияний (Агафья, Катя) и т. п. Другая величина, выделяемая характеристиками как формирующая характер сила, — изначальные свойства натуры персонажа. Об их значении для тургеневской концепции человека — речь впереди. По- 50 ка же важно отметить специфику их обрисовки внутри характеристик. В отличие от Толстого, не доверявшего любым обобщенным определениям человеческих качеств, Тургенев, как это уже не раз отмечалось, характеризует-свойства своих персонажей, ориентируясь на систему стереотипных обозначений, сложившихся вне искусства. В рамках характеристики стереотипные определения и критерии обычно удовлетворяют писателя. В результате перед нами свойства взаимно отграниченные, тяготеющие к определенным социально-психологическим и моральным рубрикам. Эти свойства легко группируются вокруг единой социально-психологической доминанты и образуют какой-либо одноплановый ряд (так строятся характеристики Пан-далевского, Пигасова, Калитина, Анны Васильевны Стаховой и многих других второстепенных персонажей). Но даже когда скрещиваются несколько таких доминант (так строится, например, характеристика Паншина, сталкивающая комплексы типичных качеств светского человека, чиновника-карьериста и художника-дилетанта), это не меняет сути дела. Из совмещения контрастных формул может возникнуть сложное единство, но это единство сочетания, а не сплава. Разнородные свойства бывают представлены сосуществующими, иногда борющимися, но почти никогда характеристика не раскрывает их' взаимопроникновение, их взаимопереходность. Можно сказать, что у Тургенева характеристика сводит характер к сумме морально-психологических стереотипов, а их сочетание возводит к влиянию типических обстоятельств среды и эпохи. Говоря иначе, характеристика прежде всего выявляет Типажность персонажа. Л. Я- Гинзбург пишет о стремлении Тургенева-романиста создавать «чистые беспримесные типы».32 Это в первую очередь и в наибольшей степени относится ' к тургеневским характеристикам. В одних случаях перед нами типы уже известные, получившие определенную оценку в общественном со- Гинзбург Л. Указ, соч., с. 309. 51 знании. Таково содержание характеристик Пандалев-ского, Басистова, Пигасова, Дарьи Михайловны Ласунской, Михалевича, Паншина, Варвары Павловны Коробьиной, Берсенева, Шубина, Курнатовского, братьев Кирсановых и многих других. Иногда это типы новые, еще только слагающиеся (или уже сложившиеся, но еще не замеченные) и потому требующие осмысления, поиска типологических формул. Схемы подобных типов обычно намечаются характеристиками главных героев и героинь. Но независимо от этого различия тургеневская характеристика всегда схематизирует, всегда устремлена к идеальной типологической модели. Отсюда жесткость отбора ее слагаемых, ее отчетливая построенность, явная нацеленность действующих в ней внутренних соотнесений. Уникальное содержание индивидуальности неуловимо для тургеневской характеристики; она может лишь подвести к тем границам, за которыми оно находится. Однако власть подобных принципов простирается лишь до известного предела. Включение характера в динамику сюжетного действия сразу же обнаруживает иные тенденции, противоположные законам обобщенной характеристики. Часто уже сама завязка сюжетной судьбы персонажа несет в себе резкое отклонение от венчающего его характеристику итога. Завязкой оказывается возникновение отношений, ставящих изображаемых людей в нетипичные для них ситуации.33 Вспомним хотя бы завязку «Рудина». В атмосферу обычных житейских разговоров и занятий внезапно вторгается пророк-энтузиаст и возвещает великие истины, придающие каждому мгновению жизни грандиозный метафизический смысл. Появление такого 33 В. М. Фишер показал, как важны нарушения «нормального» хода жизни персонажей для завязок тургеневских повестей (Фишер В. М. Повесть п роман у Тургенева. — В кн.: Творчество Тургенева. М., 1920, с. 14—15). Но.сюжетная структура тургеневских романов осталась за пределами наблюдений исследователя: 52 человека в такой обстановке всех ошеломляет, настолько оно не предусмотрено ее обычными законами. В этой обстановке Рудин все равно что иностранец или взрослый, попавший в компанию детей (оба сравнения прямо даны в тексте). С другой стороны, «биографическая» норма его собственной жизни также резко нарушена его отношениями с Натальей. Рудин оказывается в таком положении, в которое он ни разу в жизни не попадал. «Я первый раз встретился с душой совершенно честной и прямой», — признается он в прощальном письме. Сходная ситуация— в завязке «Дворянского гнезда». Вот ощущения Лизы, впервые заметившей, что ее уже что-то связывает с Лаврецким: «Ей и стыдно было и неловко. Давно ли она познакомилась с ним, с этим человеком, который и в церковь ходит редко и так рав- . нодушно переносит кончину жены, — и вот она уже сообщает ему свои тайны... Правда, он принимает в ней участие; она сама верит ему и чувствует к нему влечение; но все-таки ей стыдно стало, точно чужой вошел в ее девическую, чистую комнату» (7, 224). Опять очевидно нарушение сложившейся нормы, выход из обычной колеи. С другой стороны, любовь Лаврецкого к Лизе нарушает уравновешенно-безотрадный итог его предыстории. Нарушение «биографических» норм образует и завязку «Накануне». Московская барышня влюбляется в болгарского революционера — поворот почти невероятный с точки зрения обычных житейских возможностей. Да и для Инсарова, раз и навсегда решившего, что ему «русской любви не надо», его сближение с Еленой —явная неожиданность. Наконец, в основании сюжета «Отцов и детей» —все тот же ход. Лекарский сын — бедняк, плебей, нигилист — попадает в чуждую ему обстановку барского быта, в атмосферу дворянской культуры. Попадает и безнадежно влюбляется в холодную ари-стократку, дерется на дуэли, страдает от мировой скорби не хуже байроновских героев. А всех окружающих его появление сталкивает с проблемами, .о самом существовании которых они не догадывались прежде. Иными словами, характеры сразу же выво- 53 Проявления отмеченной закономерности (напоминаю, что речь идет о равновесии обузданных противоположностей) легко улавливаются и в других аспектах поэтики Тургенева, например, в организации .взаимодействия различных сюжетных линий. Обычно линия героя-или героини резко отделяется от всех прочих высотой своего кульминационного взлета. Такие события, как гибель Рудина на баррикаде, уход Лизы в монастырь, отъезд Елены в Болгарию и, наконец, бесстрашная смерть Базарова, по значительности просто несоизмеримы с тем, что происходит в сюжетной «жизни» других персонажей. Отсюда— очевидная иерархия соответствующих линий внутри многосложного единства сюжета. Сюжетные судьбы действующих лиц развертываются у Тургенева как бы на разной высоте, а временами — чуть ли не в разных измерениях. Но этой иерархичности противостоят не'менее очевидные сюжетные параллелизмы, выявляющие в различиях момент неожиданного и часто парадоксального сходства. Казалось бы, между Базаровым и его антагонистом Павлом Кирсановым не может быть ничего общего. Но история любви Базарова к Одинцовой многими чертами напоминает историю несчастной страсти Павла Петровича.36 Возможен параллелизм несколько иного типа, построенный на менее резком контрасте двух образов и потому выявляющий сходное в различном с меньшей остротой. Но в конечном счете функция параллелизма здесь та же самая, и осуществляется она вполне осязаемо. Таков параллелизм сюжетных линий Базарова и Аркадия Кирсанова, при всей их разности проведенных через ряд одинаковых ситуаций. • Оба безответно влюбляются в одну и ту же женщину, оба в какой-то момент начинают тяготиться атмосферой родного дома и оба (хотя и по разным причинам) на 36 См.: Б ялы и Г. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». М. —Л.. 1963, с. 107. 62 время бегут из нее. Параллелизм есть даже в сценах любовных объяснений Базарова с Анной Сергеевной и Аркадия с Катей. В обоих случаях объяснение прерывается накануне решающего момента, продолжается уже на следующий день и внезапно заканчивается признанием. Параллелизм ситуаций связывает сюжетные линии Рудина и Лежнева: перед нами судьбы двух людей, в юности прошедших через увлечение романтическим идеализмом, а затем, в зрелости, столкнувшихся с несокрушимой силой житейской прозы. Соотнесение обеих линий активизируется в эпилоге, когда бывшие друзья прямо сравнивают свои характеры и жизненные пути. У Тургенева можно заметить и случаи пародийного параллелизма, когда одна сюжетная линия развертывает комически сниженный вариант другой. В XII главе первого тургеневского романа мы слышим рассказ о том, как в пору своих заграничных странствий Рудин увлекся француженкой-модисткой. И не так уж трудно заметить, что эта смешная история несет черты пародийного сходства с историей отношений Рудина и Натальи Ласунской. Ведь Рудин и Наталья тоже не поняли друг друга, не поняли, что искали в' любви совершенно разнога и в сущности переживали совершенно разные чувства, по недоразумению называя их одним и тем же словом. Есть пародийная перекличка в сюжетных линиях Рудина и Пандалевского: Рудин тоже многократно оказывается в положении приживальщика, хотя и живет на чужой счет «не как проныра, а как ребенок». Подобный же параллелизм — в соотношении линий Лаврецкого и его жёны. На определенном этапе Варвара Павловна разыгрывает пародийный вариант того же жизненного цикла: здесь есть и крах/ и разочарование, и возвращение на родину, и смирение, и даже добровольное затворничество в деревенской глуши. В «Накануне» некоторые звенья сюжетной линии Инсарова пародируются линией Курнатовского, комически дублирующего и роль героя в отношении Елены (Курнатовской тоже ее |
