Узнаём о другом предмете
 Скачать 6.01 Mb. Скачать 6.01 Mb.
|
|
42. Способы выражения грамматических значений. В процессе построения нового предложения мы переводим слова, отобранные для создаваемого предложения, в морфологические формы. Этот процесс называется формообразованием, словоизменением или морфологизацией. Он осуществляется за счёт целой системы способов: 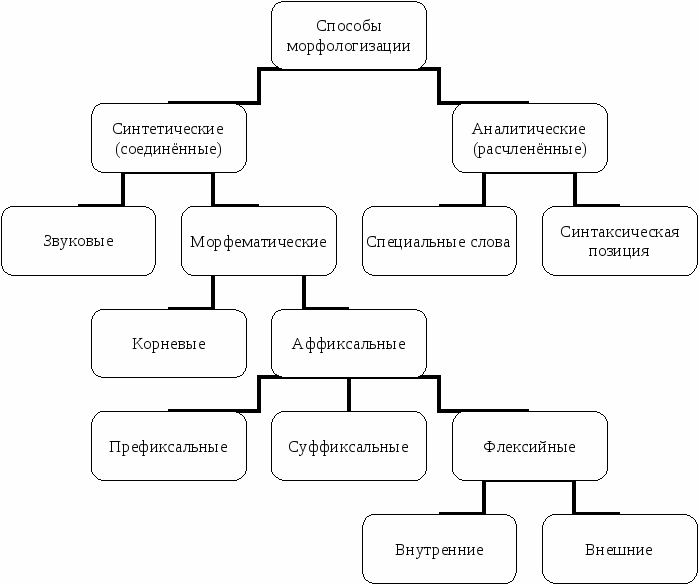 Синтетические способы выражения морфологических значений (морфологизации) переводят лексему в ту или иную морфологическую форму слова за счёт изменения её как таковой (их можно назвать внутрисловными), а аналитические делают это за счёт либо специальных слов (например, артиклей), либо за счёт постановкиэтой лексемы в определённую позицию во фразе (их можно назвать внешнесловными). Звуковая морфологизация. В этом случае лексическая форма слова переводится в морфологическую исключительно за счёт звуковых средств. К ним относится ударение. Так, слова «нарезать» и «насыпать» отбираются говорящим в лексический период фразообразования в форме несовершенного вида, т.е. с ударением на суффиксе «-а-». Морфологизация этих слов в морфологический период фразообразования производится либо за счёт сохранения ударения на «-а-», либо за счёт его переноса на основу, на корень. В первом случае лексема переводится в форму несовершенного вида, а во втором — совершенного. Корневая морфологизация. В качестве носителя морфологического значения в данном случае выступает корень слова. Корневая морфологизация может осуществляться в двух формах — супплетивной и редупликационной. Примеры первой: идти — шёл, хороший — хуже; в нем. gut — besser, в лат. bonus — melior, в англ. goot — better, go — went «идти — шел/шла», I — me «я — мне» и т.д. Примеры редупликации (повтора корня): в малайском orang «человек» — orang-orang «люди», в шумерском — kur «страна» — kur-kur «страны». Редупликация часто встречается в хамитских и африканских языках. Примеры морфологизации по числу из хамитских языков: сомали: dе$r «длинный» — dе$r-dе$r «длинные», хауса: katara «задняя нога» — katatari «задние ноги». Морфологическую редупликацию следует отличать от словообразовательной.В первом случае мы имеем дело с формообразованием, а во втором — со словообразованием. Словообразовательнаяредупликация в африканских языках: фула: jal «смеяться» — jaljaln «хихикать», memm «трогать» — memmemn «постоянно трогать»;догон: teu «хромота» — teu-teu «идущий маленькими шагами» (о ребёнке), dеeli «резина» — dеeli-dеeli «липкий, клейкий» и т.д. Если новое слово образуется за счёт его множественного повтора, то мы имеем дело с полипликацией — трипликацией или квадрипликацией: в языке бамана jajaja — бродяга, didididi — очень быстро. Во всех этих примерах мы имеем дело с образованием новых слов с помощью редупликации (или трипликации), а не с образованием новых морфологических форм от одного и того же слова. В последнем случае мы и имеем дело с морфологической редупликацией, которая, как и словообразовательная, может быть полной и частичной. В первом случае слова, участвующие в редупликации, полностью совпадают, а во втором — совпадают лишь частично. Примеры полной морфологической редупликации по числу мы уже слышали (в малайском orang «человек» — orangorang «люди», в шумерском — kur «страна» — kur-kur «страны», в сомали: dеr «длинный» — dеr-dеr «длинные»). Однако чаще всего редупликация бывает частичной. Вот пример из языка хауса, где форма множественного числа образуется с помощью частичной редупликации: kofa «дверь» — kofofi «двери», magana «слово» — maganganu «слова», shavara «совет» — shavarvari «советы», dabara «замысел» — dabarbari «замыслы». Префиксальная морфологизация. В русском языке подобный вид морфологизации мы наблюдаем при образовании глагольных форм совершенного вида (делать — сделать, писать — написать), но в нашем языке основным средством морфологизации является внешняя флексия. Есть языки, где префиксация выступает как ведущее средство не словообразования, а формообразования. К ним относятся, например, суахили. Вот как в нём звучит фраза «Если они не придут»: Wa-ta-si-po-ku-ja. Корень в ней стоит на самом конце — корень глагола со значением «идти», а все остальные морфемы — префиксы, передающие, в частности, определённые морфологические значения: первый — 3 л., мн. число, второй — буд. вр. и т.д. Суффиксальная морфологизация. В русском языке этот вид морфологизации мы наблюдаем при образовании тех же форм вида (решать — решить, уменьшать — уменьшить, пускать — пустить). Однако в русском языке, как и в других индоевропейских языках, суффикс уступает флексии как носитель морфологического значения. Есть языки, где суффикс используется в морфологической функции весьма активно. Так, в киргизском словосочетание «моим рукам» звучит так: Кол-дор-ум-го, где «кол» — корень слова «рука» в переводе на русский, «дор» — суффикс мн. ч., «ум» — суффикс 1 л. и «го» — флексия дат. п. Как известно, большинство суффиксов имеет не морфологическое, а словообразовательное значение. Так, в русском языке только незначительная часть суффиксов используется для перевода слова в морфологическую форму. К ним относятся, например, суффиксы причастий и деепричастий, если их считать формами глагола, а не особыми частями речи, суффикс -ее у прилагательных сравнительной степени (красивее), суффиксы совершенного и несовершенного видов (решать — решить). Однако большая часть суффиксов служит для образования слов, а не морфологических форм одного и того же слова. Но отсюда не следует, что словообразовательные суффиксы не имеют дополнительной морфологической функции. Множество суффиксов указывает на принадлежность слова либо к существительным (-ник, -тель и т.п.), либо к прилагательным (-ск-, -н- и т.д.), либо к другим частям речи. Следовательно, и словообразовательные суффиксы косвенно участвуют в морфологизации — впередаче общеморфологического (частеречного) значения той илииной лексемы. Выражают ли суффиксы в китайском языке общеморфологические значения? Сплошь и рядом. В любой грамматике китайского языка мы можем найти параграфы, описывающие суффиксы существительных, суффиксы глаголов и т.д. Так, суффикс z имеет общее значение предметности, суффикс tou в свою очередь обозначает либо предметы, не имеющие углов — круглые, овальные (на-пример, zhentou ‘подушка’), либо абстрактную предметность (niantou ‘мысль’), суффиксы же zhe и jia подобны нашим агентивным суффиксам -ист, -ник или -тель. Флексийная морфологизация. Различают два вида флексии — внешнюю и внутреннюю. Внешняя флексия находится на конце слова, поэтому по-русски её называют окончанием, а внутренняя вставляется внутрь корня. Внешняя флексия — основной способ морфологизации лексемы во всех типах языка, кроме изолирующего. Но в мизерном количестве она имеется и в изолирующих языках. Так, она есть, как мы помним, в китайском языке («-мен» — флексия собирательности у существительных, «-ле» — прошедшего времени и совершенного вида и т.д.). Зато в большинстве неизолирующих языков внешняя флексия — самый продуктивный способ морфологизации. Правда, и в них она представлена в разной мере. Возьмём, например, падежные окончания в индоевропейских языках. В современном французском у существительных их нет вообще, в английском — два, в немецком — четыре, в русском — шесть. Но есть языки, где падежей намного больше, чем в индоевропейских языках. К таким языкам относятся финно-угорские. Так, в финском языке — 14 падежей: номинатив, генитив, партитив, иллотив, инессив, эллатив, аллатив, адессив, транслатив, эссив, абессив, комитатив, инструментив. Такое же число падежей в эстонском языке. В нём нет инструментива, зато есть терминатив. Не слишком отстают от финского и эстонского в числе падежей мордовские языки — эрзянский и мокшанский. В них 12 падежей. Каждый из падежей, кроме именительного, имеет особое окончание. Возьмём, например, мордовское слово ума «загон, поле». Ном. — ума, ген. — ума-нь, датив — ума-нди, абл. — ума-да, инесс. — ума-са, элатив — ума-ста, иллотив — ума-с, пролатив — ума-ва, компаратив — ума-шка, абессив — ума-фтома, транслатив —ума- кс, каузатив — ума-нкса Внутренняя флексия в индоевроейских языках — большая редкость (вспомним английские foot — feet «нога — ноги», tooth — teeth «зуб — зубы», man — men «человек — люди»). Однако есть языки, где внутренняя флексия составляет характерную их особенность. Их называют внутрифлективными. К ним относятся семитские языки — в частности, еврейский (иврит) и арабский. Вот некоторые глагольные формы на иврите, отличающиеся соответственными внутренними флексиями в корне ГНБ со значением «воровать»: ГНоБ — воровать, ГаНаБ — воровал, ГоНэБ — ворующий, ГаНуБ — воруемое и т.д. Примеры некоторых глагольных форм с корнем КТБ из арабского: КаТаБа — написал, КуТиБа — был написан, КаТиБу — пишущий, уКТуБ — пиши и т.д. Специальные слова. Типичными представителями данного вида аналитической морфологизации являются артикли и глагол «быть». С помощью последнего, как известно, во многих языках образуются определённые морфологические формы глагола — например, формы континиуса в английском. В артиклевых же языках мы наблюдаем выражение рода, числа, падежа и определённости/ неопределённости в немецком; рода, числа, определённости/неопределенности — во французском; ед.ч. у неопределённого артикля и определённости — у определённого в английском. Синтаксические позиции. При недостатке флексийных средств значение той или иной лексемы может выражаться посредством её позиции в предложении. С помощью данного способа многие слова морфологизируются в изолирующих языках. Слово «хао» в китайском в разных синтаксических позициях может быть и существительным (добряк), и прилагательным (добрый), и глаголом (любить). Но и в других языках в некоторых случаях мы встречаем данный тип морфологизации. Сравните предложения: Кедр заслоняет ель. Ель заслоняет кедр, где значение именительно падежа или винительного зависит от места существительного. 43. Части речи как лексико-грамматические разряды. Семантические, морфологические и другие признаки частей речи. Морфология — наука о частях речи и их категориях. Она относится к числу древнейших. Еще у Дионисия Фракийского (II—I вв. до н.э.) в его «Грамматическом искусстве» было выделено восемь частей речи: имя, местоимение, глагол, причастие, наречие, артикль, предлог и союз. Римляне ввели в состав частей речи междометие. Выделенные античными грамматистами 8—9 частей речи в дальнейшем перекочёвывали в Европе из одной грамматики в другую без каких-либо изменений вплоть до XIX в. Они представлены, например, в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова (1755) (есте-ственно, исключая артикль). Но в XIX в. традиционная классификация слов по частям речи начинает подвергаться изменениям. Первые изменения в традиционную классификацию слов по частям речи стали вносить в начале XIX в. отечественные грамматисты — И.С. Рижский, И. Орнатовский и Н.И. Греч. Иван Степанович Рижский был профессором (а одно время и ректором) Харьковского университета. Его главный лингвистический труд — «Введение в круг словесности» (Харьков, 1806). И.С. Рижский был в числе первых, кто осмелился на некоторый пересмотр традиционной классификации слов по частям речи. В чём он выразился? Во-первых, существительные и прилагательные он стал рассматривать как «особливые» части речи, а не особые разряды одной части речи — имени; во-вторых, количественные числительные он отнёс к существительным, а порядковые — к прилагательным; в-третьих, он ввёл причастие, как и деепричастие, в состав глагольных форм. Его классификация слов по частям речи выглядит следующим образом: существительное, прилагательное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, междометие. Как и в традиционной грамматике, в ней восемь частей речи. Но их состав в какой-то мере изменился: причастие у И.С. Рижского введено в состав глагола, зато имя разделено на существительное и прилагательное. В 1810 г. в Харькове Иван Орнатовский издал «Новейшее начертание правил российской грамматики, на началах всеобщей основанных». В этой работе он в целом сохраняет классификацию слов по частям речи, осуществлённую И.С. Рижским. Только в отношении числительных И. Орнатовский разошёлся со своим коллегой. В отличие от И. С. Рижского, который распределял числительные по существительным и прилагательным, И. Орнатовский выделил их в особую часть речи. Вот почему к восьми частям речи, выделенным И.С. Рижским, И. Орнатовский добавил девятую — числительное. Капитальный пересмотр традиционной классификации слов по частям речи мы обнаруживаем у Николая Ивановича Греча, который в своей «Пространной русской грамматике», вышедшей в Санкт-Петербурге в 1827 году, впервые в европейской грамматике даёт весьма оригинальную классификацию слов. Все слова он сначала поделил на два неравночисленных класса — междометные (они выражают ощущения) и немеждометные (они выражают представления), а затем последние он разделил на три класса — части речи, частицы речи, часть речи и частица речи одновременно. К «частям речи» он отнёс 7 разрядов слов: существительные, прилагательные, причастия, качественные наречия, деепричатия, «самостоятельный» глагол «быть» и «совокупные» глаголы. В число «частиц речи» он включил 3 разряда слов — предлоги, союзы и «первоначальные» наречия, а местоимения он расценил как часть речи и частицу речи одновременно. В конечном счёте мы насчитываем у Н.И. Греча 12 классов слов: 1 + 7 + 3 + 1. С Н.И. Греча в истории грамматики начинается тенденция к увеличению частей речи в языке. Эта тенденция представлена, например, в первой половине XIX в. у немецкого грамматиста Карла Беккера, который выделил 11 частей речи: существительные, глаголы, прилагательные, глагол-связка, вспомогательные глаголы (иметь, становиться и т. п.), артикли, местоимения, числительные, предлоги, союзы и наречия. В начале XX в. громко заявляет о себе новая тенденция в грамматической науке — тенденция к уменьшению частей речи в языке. В России она ярко представлена в книге А.М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» (1-е изд. 1914.), где её автор сокращает число частей речи революционным образом: он выделяет в ней лишь четыре «чистых» части речи — существительное, прилагательное, глагол и наречие. Прилагательные, местоимения и числительные распределяются им по этим четырём частям речи, а служебные части речи и междометия вообще исключаются из состава частей речи. Явный разнобой в определении числа частей речи, возникший в XIX—ХХ вв., ставит перед нами вопрос о принципах классификации слов по частям речи. К осмыслению классификационных оснований, лежащих в основе деления слов на части речи, русская грамматическая наука пришла ещё в начале ХХ в. В своем «Синтаксисе русского языка» А.А. Шахматов чётко обозначил три принципа классификации слов по частям речи. (Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. 2-е изд. Л., 1941. С. 420—434). Учёный выделил
Морфологический принцип.Сущность данного принципа общеизвестна: отнесение некоторых слов к определённым частям речи производится по их формальным (морфологическим) показателям — в первую очередь по окончаниям. У существительных — своя система морфологических показателей, у прилагательных — своя, у глаголов — своя и т.д. Эти системы и показывают, к какой части речи следует относить слова, имеющие формальные показатели. У морфологического принципа деления слов по частям речи есть свои границы. Мы увидим их даже и на материале русского языка, который, как и другие индоевропейские языки, относится к языкам с развитой морфологией, но особенно ярко обнаруживаются границы применения морфологического принципа в языках с неразвитой морфологией. К ним относится, например, китайский. В этом языке отсутствует богатая система формальных показателей у существительных, глаголов и других частей речи. Так, у существительных нет показателей рода, числа и падежа, хотя имеется единственный показатель — флексия «-мен». Эта флексия, однако, охватывает ограниченное число существительных: в основном она употребляется у существительных, обозначающих несколько лиц — в значении «учащиеся», «товарищи» и т.п. Нет в китайском и развитой системы спряжения. В ограниченной мере в нём представлены лишь видо-временные формы глагола (например, окончание «-ле» указывает на прошедшее время и завершённость действия, а окончание «кво» — на многократность действия, совершённого в неопределённом прошлом). Однако в целом китайский язык — яркий пример языков с неразвитой системой формальных показателей, с неразвитой морфологией. Понятно, что морфологический принцип на материале таких языков делает осечку. С его помощью классификации слов по частям речи в них не проведёшь. Границы применения данного принципа легко обнаружить и на нашем родном языке.
А.А. Шахматов добавлял сюда ещё два ограничителя морфологического принципа:
В связи с ограниченностью морфологического принципа в делении слов по частям речи возникает необходимость в других принципах. Синтаксический принцип.Сущность этого принципа состоит в отнесении того или иного слова к определённой части речи по его основным синтаксическим функциям. Так, существительное чаще всего употребляется в функции подлежащего или дополнения, прилагательное — в функции определения, глагол — в функции сказуемого, а наречие — в функции обстоятельства. А служебные части речи? Сами по себе они не употребляются, как правило, в роли того или иного члена предложения, хотя и используются при них (например, предлоги употребляются с существительными). Однако чётких синтаксических функций у служебных частей речи нет. Этот факт свидетельствует об ограниченности второго — синтаксического — принципа в классификации слов по частям речи. Семантический принцип.Сущность этого принципа состоит в том, что определённое слово относят к соответственной части речи по его смысловой функции. Так, существительные обычно обозначают субстанции, прилагательные — их признаки, глаголы — действия и состояния и т.д. Семантические функции могут быть обнаружены и у служебных слов. Так, предлоги, как правило, указывают на отношения одного рода, а союзы — другого рода. Правда, состав подобных отношений оказывается весьма пространным, что указывает на трудность применения к служебным частям речи и семантического принципа. Современная наука в основном использует все три принципа при выделении частей речи. Это позволяет ей избавляться от серьёзных расхождений в определении частей речи в том или ином языке. При этом надо помнить, что применимость трёх принципов, о которых идёт речь, к разным языкам зависит от их типа. |
