Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
Разрешите мне вам задать вопрос. С кем вы беседовали? ОТВЕТ: С Варпехом беседовали. Может быть, Вы нам посоветуете, с кем беседовать? — Я бы советовал побеседовать с Гиацинтовой. С Бирман тоже можно. ВОПРОС: А с Бабановой? — Я не знаю, как она расскажет то, что она делала. С ней очень интересно беседовать. ВОПРОС: Как Бабанова становилась в мизансценах? Она сама решала или Вы ей указывали? — Я настаивал на том, чтобы она ходила по сцене, чтобы она двигалась. На этом я настаивал. Мне казалось, что она таким образом будет дорисовывать мои декорации. Из молодых художников я бы посоветовал побеседовать с Зеленским, который делал «Ивана Грозного» во Втором МХТе. Он делал сейчас спектакль в Ленинграде «Кола Брюньон»; правда, он участвовал вместе с Пименовым, но и сам он делал, самостоятельно. Мне кажется, что он очень интересный художник. С Михоэлсом вы не разговаривали? Это тоже очень интересный человек. 14 апреля 1938 года  Моя работа над оформлением спектакля Я с большим интересом взялся за участие в создании спектакля на тему из русской истории. До сих пор мне удавалось применять мои творческие методы в области театральной декорации только в оформлении постановок западных комедий. Меня вполне удовлетворяла установка режиссера Б. Захавы, который отказался в этом спектакле от житейски-бытовых красок и стремился показать исторически правдивую, но отвлеченную от бытовщины обстановку. Для создания декораций, соответствующих этой установке, мне пришлось тщательно разобраться в наследии древнерусского искусства. Дело в том, что от 17 века до нас дошло гораздо больше памятников, чем от 15—16 веков, и поэтому часто все древнерусское изображают в духе 17 века. В связи с работой над пьесой надо было выяснить, что представляет собой 16 век с точки зрения искусства. Обращаясь к художественному наследию 16 века, я стремился вызвать к жизни мотивы строгого стиля, а не те чисто внешние украшения, которые часто используются при оформлении постановок на древнерусские темы. Работая над этим спектаклем, я особенно усердно изучал и использовал древнерусский орнамент 16 века. Пьеса «Великий государь» состоит из 12 картин, причем действие происходит в девяти различных местах. Сама по себе недостаточно цельная, напоминающая хронику пьеса представляла для художника большие трудности. Вначале я стал делать декорации по тому методу, который я выработал при оформлении «Двенадцатой ночи» Шекспира, то есть разворачивая архитектурную конструкцию по кругу. Но этот прием был недостаточным для пьесы, в которой существовали разные по значению и по характеру картины. Дать разнообразие при общей цельности было почти невозможно. Поэтому, в соответствии с содержанием пьесы, я построил оформление в двух планах. В сценах, происходящих в часовне, во дворике, в большой престольной, преобладала белокаменная архитектура, а сцены в палатах Шуйского, Годунова, в шатре я разрешил средствами живописи при почти полном отсутствии конструкции. Особенно трудным был переход от сцены, в которой царь убивает своего сына, к непосредственно следующей за ней идиллической картине в саду. Мне пришлось сделать несколько вариантов оформления этой картины. В окончательном решении я написал сад с плакучими березами на фоне каменной стены. Некоторые театральные художники не учитывают цельности сценического пространства. В их постановках сцена является как бы продолжением зала и лишена самостоятельности. Я же всегда стремлюсь замкнуть пространство сцены как нечто целое и поэтому прежде всего стараюсь подчеркнуть начало театрального пространства и его условную глубину. В «Великом государе» я следовал этому принципу, стараясь ясно выявить основные пространственные элементы сценической композиции. Чтобы увеличить маленькую сцену вахтанговского театра, решено было вынести часть оформления на просцениум. Далее, я ввел в оформление стенную роспись, которая придавала изображенной архитектуре монументальность. В заключительной картине своды, расписанные многочисленными фигурами, как бы увеличивали количество пирующих. Впечатление грандиозности пира достигается также и тем, что палаты построены как многопланная анфилада сводчатых камер и в пролеты арок видны только края столов с сидящими за ними гостями. Чтобы актер не казался слишком маленьким среди грандиозных декораций, я стремился в оформлении сжимать пространство. Например, сделав белокаменное крыльцо узеньким и с невысокой сенью, я добился того, что актер, стоя на нем, выглядит большим, мощным. Нечто подобное можно наблюдать во фресках Джотто: в его тесных интерьерах фигуры особенно значительны и объемны. Я люблю работать на сцене цветом. Часто мою живопись воспринимают как простую раскраску, но я стремлюсь через раскраску показать тон. В моем принципе белое и черное играют решающую роль. Это та мера, которая позволяет определить выразительность остальных цветов. Я не следовал строго за историей, когда одевал актеров в розовые, голубые, коричневые, золотые, серебряные костюмы. Меня интересовала в данном случае музыкальность цветовых переходов. Исходя из характеристики образов и в зависимости от основных декораций, я цветом хотел подчеркнуть драматический момент. Когда Иван IV появляется то в черном, то в красном, в зависимости от события, это, мне кажется, помогает почувствовать реальный смысл его действий. То же самое, но в еще более сложной форме, происходит, когда я, воспользовавшись мизансценой, заставляю подходить царя в черно-зелено-серебряной одежде то к Федору, одетому в розовое, то к царевичу Ивану в серебряном костюме,— здесь появляется уже целый комплекс красочных звучаний. Успех художника-постановщика во многом зависит от исполнителей. В Театре им. Вахтангова я встретил прекрасно сплоченный коллектив работников, которые помогли претворению моих замыслов. В этом спектакле художники-декораторы, костюмеры, мастер по росписи тканей, бутафоры показали образцы подлинно творческой работы. Декабрь 1945 года 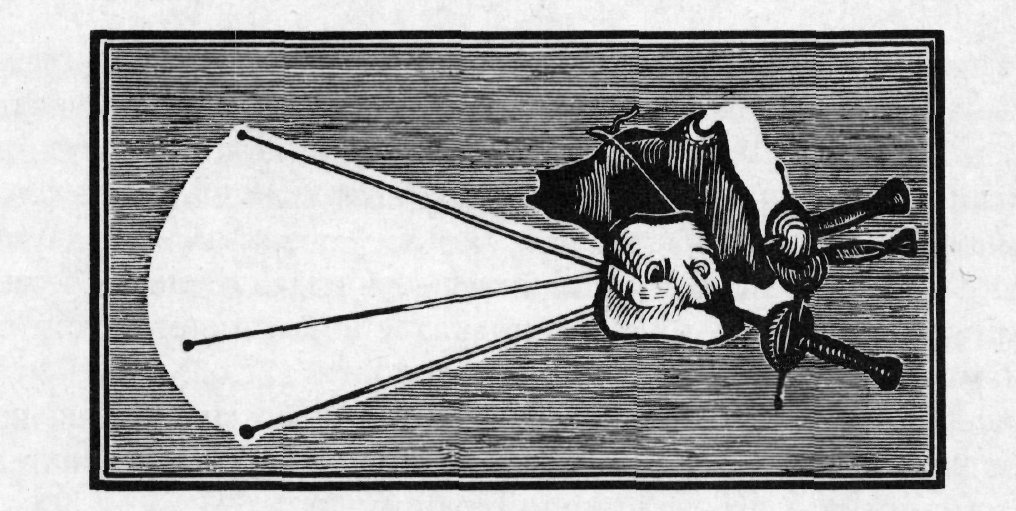 Об оформлении спектакля Я не могу считаться присяжным театральным художником, я работаю в театре довольно редко — раз в 3 или 4 года и за 20 лет мною сделано всего 5 постановок. Но иду я в театр всегда с удовольствием, иду ради его своеобразия среди других искусств, и, пожалуй, это своеобразие из-за редкости моих дебютов особенно остро чувствую. Всякое искусство по-своему изображает, по-своему строит образ, по-своему и особенными средствами ищет реализма, и поэтому естественно задать себе вопрос: ради чего идешь в театр? В детстве я, как и все ребята, играл: делал шляпы и плащи из газет, мечи из щепок, лошадей из палочек, превращая магией игры стулья, столы в невесть что; и когда я стал взрослым и художником, то иногда чувствовал, что такое широкое многосложное творчество — было в прошлом и уже никогда не повторится; но когда я попал в театр, ужена сороковом году жизни, это повторилось; я опять почувствовал чудо игры и то, что надо творить целый мир — от пуговицы, шляпы до архитектуры. Другая черта театра, которая меня увлекает, это движение: движение декораций — новые декорации в той же раме из акта в акт, движение круга, трансформация вместе с действием актеров на глазах у зрителя, игра вещей и музыка групп, цветовые аккорды, все время меняющиеся; только в театре вы можете восхищаться приходом актера в костюме определенного цвета и тем самым меняющего цветовой характер декорации, приходит другой и опять новое сочетание; все меняется, и смысл цветовых сочетаний раскрывается по новому. Затем меня увлекает и своеобразный синтез театра: в декорациях - синтез объема и живописи, натуры и иллюзии, архитектуры, скульптуры, живописи и орнамента — такой, который в жизни и мог бы быть, но редко допускается, а в театре в моей власти его осуществить. По-этому меня никак не увлекает сделать все живописно, сделать все объемом, но сочетание всех этих элементов, помощь друг другу, создание мира и в то же время даже разоблачение одним элементом простой вещественности другого (объемом — плоского изображения); как бы ирония одного элемента над другим и тем самым всегда обновление, творение чуда, воспринимаемого зрителем и как бы им самим творимого. И, наконец (но это подобно книге), театр — как изображение пространственными средствами словесного произведения, словесной темы; и здесь — мизансцены и актер, оживляющий все и дающий всему масштаб. В первый раз начал я в театре работать, будучи уже взрослым, сложившимся художником, и начал очень удачно, можно сказать, счастливо. Это был чудесный Шекспир («Двенадцатая ночь»), замечательный режиссер Гиацинтова, полное сочувствие моему оформлению, хорошие актеры, доверие и внимание ко мне всех товарищей по работе и очень хорошее выполнение всех деталей декораций и костюмов. Наверное, повлияло и то, что моя мысль подсознательно все годы работала в направлении игры и декораций, и я копил и копил и уже легко черпал из какого-то запаса все разнообразие нужных форм; [повлияло] и то, что можно было взять как бы Италию, правда, смешав ее, как и у Шекспира, с Англией, но все-таки в основном Италию, ранний Ренессанс, который я очень люблю, который много раз непосредственно видел в самой Италии. Я несколько раз уже высказывался относительно постановки «12-й ночи» и боюсь, что буду повторяться. Главным, мне кажется, в этой работе был опыт игрового чуда; это была попытка при большом лаконизме, используя движение круга, занавесей, экранов и т. д., дать возможно более богатое игровое приложение всех вещей, игровую разносторонность их, причем по большей части была откровенная материальная метафора, часто соединявшаяся с иронией и юмором, что комедия не только позволяла, но и требовала. Я писал в свое время, что меня поразила пустая сцена, ее конкретная глубина; и своей задачей я поставил оформить ее не уменьшая и тем самым пришел к прозрачным декорациям, только оформляющим пространство и не заслонявшим задника. Задник, откровенный задник, действующий как бы в двух направлениях: с одной стороны, продолжающий пространство, дающий глубину, с другой — как бы замыкающий и обрамляющий архитектурную конструкцию. Для меня всегда дороги вот эти две как бы противоречивые тенденции изображения пространства. Отправным для меня была ритмичность сценического пространства. Как в итальянской живописи часто художник на картине, построив архитектурой пространство метрически и ритмически цельное, ставит фигуры в незамысловатые группы и тем не менее получает композиционное решение, так и тут — стоило архитектурой построить ритмическое пространство, как почти всякое движение, всякая мизансцена звучала как ритм. Часто на монтировочных репетициях я любовался группами рабочих, они ритмически жили в декорациях. И другое — это масштаб. И здесь я вспоминал итальянцев. Начиная с раннего Ренессанса и вплоть до Высокого художник уменьшает размер вещей и архитектуры относительно действующих лиц и тем самым делает каждый жест, каждое движение персонажей значительным, монументальным, как бы более властным над пространством. Так у Джотто, так у Рафаэля (лодки), у Тициана (архит[ектура]) и Леонардо да Винчи (стол) — да у большинства художников. Получается как бы обостренная масштабность. Может быть, не всегда это нужно, но тут это было, как мне кажется, просто необходимо (а иногда это вызывается и просто нуждой — маленькая сцена). Работа над образами персонажей была тоже очень увлекательна. Прекрасная женственная Виола, от переодевания становящаяся еще женственней. Графиня, герцог — женственность и мужество. Мария, корсар, капитан, сэр Тоби и сэр Эгьючик, Мальволио — тут как бы путешествие из области красоты и нежности в область характера, здоровой грубости, веселья, острот, смеха, почти уродства. Я часто задавал себе вопрос: что «Двенадцатая ночь», как она была мной оформлена,— реалистическая вещь или нет? И таким методом можно ли прийти к реализму? И мне казалось, что можно ответить утвердительно; что, собственно, отсутствие иллюзорности, метафоричность образов, игровая динамичность и разнообразная оборачиваемость сценических вещей, все это, правда, поощряется фантастичностью комедии, но в корне всегда позволяет и помогает актеру выявить реалистическое зерно. Правда, только в такой комедии можно было предложить три колонны и занавес с какими-либо изображениями, да кресло — как покой герцога. И режиссер, и актеры это с удовольствием принимали, и зрителя это вполне удовлетворяло. (Правда, декорациям во время действия не аплодировали; мне кажется, что аплодируют больше статическим иллюзорным картинам, но в конце были благодарны художнику.) Так вот, задача обыграть красивые вещи и тем самым превратить эти вещи во дворцы и залы становилась как бы самой комедией, и актеры шли на это со всем азартом. Всегда ли это может быть, во всех ли пьесах? Много говорить об остальных постановках мне не хочется. «Собака на сене» в театре Революции в смысле декораций была в какой-то мере повторением «12-й ночи» без ее великолепного выполнения. Сценические условия и плохое выполнение не позволяют судить по-настоящему и о пушкинских вещах. Может быть, на то и на другое не без удовольствия можно было смотреть, но принципиально обсуждать их не стоит, в основном принципы оставались те же. Стоило бы остановиться на «Мольбе о жизни» и на последней моей работе «Великий государь» Соловьева в театре Вахтангова. Но о первой вещи трудно говорить, как о давно игранной, остановлюсь подробнее на «Великом государе». В «Двенадцатой ночи» я оформлял комедию, в соловьевской пьесе я должен был оформить трагедию; и я стремился в основном теми же средствами оформить историческую вещь, считая, что театральность, игровая оборачиваемость, материальная метафоричность, отсутствие иллюзорности — все это не мешает реализму образа, а может его только поднять, особенно если принять во внимание, что режиссер Бор[ис] Евгеньевич] Захава не хотел ставить пьесу в бытовом плане. Правда, я сразу натолкнулся на трудности. Историческая конкретность игровых пространств требовала хотя бы и очень лаконичной, но архитектурно-исторической характеристики. Сцен было много, и моя основная архитектурная конструкция была задавлена добавлениями, и приходится сказать, что в смысле оформления спектакль оказался нецельным или недостаточно цельным. Я вижу в нем как бы три характера сцен. Сцены, как бы смонтированные из архитектурных объемов и занавесей,— это большая престольная, часовня, дворец, покои царицы, покои Годунова, сколько-то шатер; затем малая престольная и пир, строящиеся на живописных падугах; и, наконец, помещение Шуйского — уже почти павильонное решение, правда, живописными средствами. Мне казалось иногда, что этому есть оправдание — сцены у Шуйского самые бытовые. Но, признав нецельность всего оформления, я тем не менее очень ценю эту постановку и считаю в основном верной и благодарен этой работе, давшей мне очень много в смысле движения к театральному реализму. Я считал, что передо мной стояла задача не давать отдельные сцены натуралистически верно, а дать прежде всего эпоху, восхитить зрителя красотой, своеобразным изяществом и строгостью русского ренессанса, на фоне которого действовал Иван. Это не строгая монументальность предыдущих эпох и не цветистая живописность 17 века. Это было не так легко, так как 17 век богатством сохранившихся памятников заслоняет от нас более ранние [века] и часто пытается быть монопольным выразителем русского стиля. В исторических стилях принято искать строгости, а раскрывать русский стиль как многообразный и имеющий разное лицо по эпохам — это важная задача нашей художественной культуры. Основными элементами всего оформления явились белые архитектурные конструкции, условно дающие арки собора и сложный шатер церкви, вдохновленный коломенским шатром, и белые прорезные кулисы и падуги, которые должны были напоминать о кирпичных узорах нашей архитектуры. Белый цвет, имеющий такое значение в нашей древней архитектуре и в русском старом костюме, должен был преобладать и как бы взвешивать все остальные цвета. На этом фоне, его сменяя и добавляя, появляются черная падуга Шуйского, шатер, красное — в престольных и голубое с охрой в пировых палатах. Авансцена оформлена деревянной с позолотой резьбой геральдического характера, и как бы бронзовые скульптурные шесты по бокам портала, и занавес, дающий Кремль в окружении гербов наших городов,— это все должно представлять государство, государственное начало, а формально существовать как объемно-скульптурный элемент спектакля, как бы измеряющий все элементы, сделанные из материи — занавеси, падуги, кулисы и т. п. (Например шпиль в архитектуре отвлечен, но если он укреплен «яблоком», он становится конкретным выражением движения, и хотя он как бы тоньше, но уже пластичен.) В театре очень важно добиваться пластичности занавесей, падуг, вообще материи, и этого можно добиться тем, что ее прорезаешь, тем, что обрабатываешь край, тем, что наносишь хотя бы ватные рельефы, и, наконец, тем, что сопоставляешь с каким-либо небольшим, но чеканным по форме объемом. В данном случае так работал портал. Борис Евгеньевич Захава сразу одобрил цветовое решение и принял его как принцип. Надо сказать, что размеры сцены не соответствовали пьесе, сцена была мала и нужно было хитрить, добиваясь монументальности; сравнительно небольшую архитектуру пришлось увеличить деталями (напр[имер]: собор — крыльцом и т. п.). И в этом смысле большую роль сыграла стенная роспись, изображения людей, дававшие масштаб. Этих изображений опасались, боялись, что они отвлекут зрителя, а если они велики, как в престольной, то задавят актера. Ни то, ни другое не произошло; их признали, и я в последней картине пира все плафоны и стены расписал людьми, что дало масштаб, богатство и праздничность и как бы увеличило количество пирующих. Цветом в декорациях я старался выразить тему, то же и в костюмах. Одеть Грозного — царя, чтоб он был грозный, иногда суровый, иногда простой. Одеть Шуйского, чтоб он был льстецом и интриганом, розовые и фиолетовые должны у него звучать по-особенному. Цвета Бориса Годунова — это его дельность и ум. Царевич Иван, Федор и т. д.— костюмов масса, больше ста, и, по возможности, всюду — это цветовая характеристика. В смысле костюма мне очень помогла Л. О. Баликова, костюмер театра Вахтангова, она достала настоящий старинный крой, и это определило подлинность складок. Большое значение я придавал сочетаниям костюмов друг с другом и с декорациями. Движение актеров, перемена групп — все это давало возможность строить цветовую музыку. Когда приходит черный с серебром Иван с коричнево-зеленоватым Годуновым — это одно; а вот Иван с Федором, вот он с Иваном-царевичем, вот он с Шуйским — все это разные аккорды, по-разному характеризующие тот же костюм Ивана и обратно. И вот, подводя итог рассуждению и признавая, с другой стороны, некоторую нецельность оформления и сложность в силу историчности, тем не менее можно считать, что принципы остались в основном те же, что и в «12-й ночи»: та же откровенность в смысле материала, та же цветистость, то же разнообразное использование конструкций, то же сопоставление объема и ткани; и мне кажется, что всем этим я помог увидеть Великого Государя — Ивана Грозного. Словом, действо-вал в плане реализма. И на самом деле, могут ли помешать театральному реализму метафоричность образов, и пластическая ритмичность, и цветовая музыкальность? Для меня театр — это особое искусство, ничем не заменяемое и ничего не заменяющее. Сию минуту я работаю опять над «Двенадцатой ночью» Шекспира в Калининском театре. [1953]  |
