Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
Как содержание облеклось формой, какими путями и где это состоялось, а где не состоялось? Я иду в издательство и получаю там задание — что это я получил: содержание или хотя бы сюжет? Скажем, сюжет. Ну хотя бы обложку для книги Чернышевского. Что я могу сделать с Чернышевским как сюжетом? По-видимому, для обложки ничего, пока я не пойму Чернышевского как тему. Это как бы повышение сюжета, как бы приобретение им некоторой формы. В то же время, став темой, содержание меньше поддается словесному рассказу, как бы становится менее определенным и в то же время более глубоким. Имея тему для моей обложки, я могу эту тему выразить чисто пластическими средствами, музыкой пластических форм. Например, шрифтом, цветом, линией или характером пятна. Когда я буду искать эти формы, то мне будет трудно об этом сделать ясный отчет и вообще этому процессу трудно дать словесное разъяснение. Я иллюстрировал одно стихотворение Бернса, в котором сюжетом является сова, кричащая вечером в лесу, и он ей сочувствует. Я изобразил лес и человека в вечернем лесу, совы не было, унылый крик я передал мрачным изображением леса и одиночеством человека. Мне кажется, я таким образом повысил сюжет до темы. Но когда я пришел в издательство, редактор упрекнул меня, что я так сделал, а не награвировал сову с пестрыми крылышками; мне кажется, он возвращал меня к сюжету. И вот, мне кажется, что большинство искусствоведов заняты обычно тем, что берут какое-нибудь произведение и выискивают сюжет, то есть делают как раз обратное тому, что делал художник, заставляют читателя и в том числе и художника как бы проделать обратный путь. Казалось, что куда более ценно было бы, если бы он мог словесно рассказать о том процессе, словесно трудно передаваемом, который проделан художником, идущим к форме, а он большею частью предпочитает говорить о сюжете, потому что о нем легче говорить, хотя таким образом мы приходим к самому началу, совершенно упускаем те трудности, которые преодолел художник, да и преодолел ли он их действительно, добился [ли] того, что содержание воплотилось в форме и они едины? 26 июня 1961 года 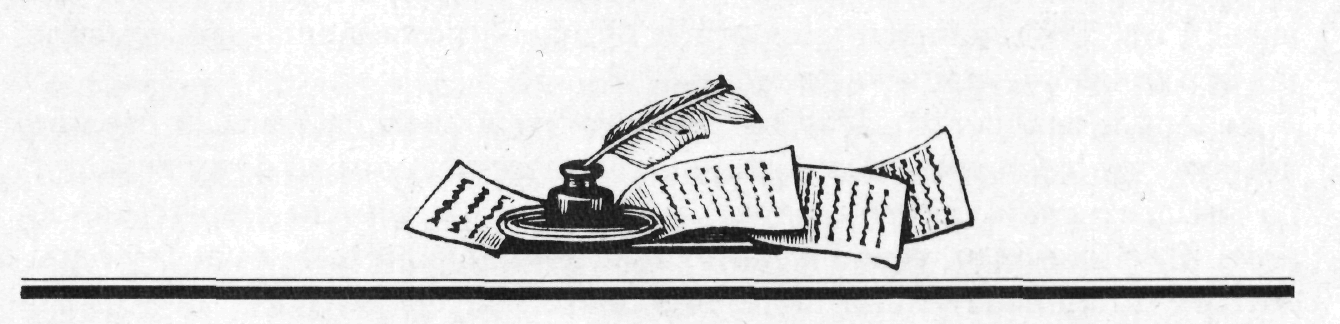 Размышления об искусстве будущего Когда думаешь и мечтаешь о будущем искусстве, об искусстве далекого будущего, то прежде всего мыслишь о темах. Темы будут другими. Но какими — пожалуй, об этом трудно говорить, потому что темы — от жизни, а какая будет жизнь, конкретно трудно представить. Но ведь космические темы будут наверно, они и сейчас есть. Но, правда, в нашем пластическом искусстве они еще звучат отвлеченно; и, надо думать, в будущем приобретут конкретность, найдут язык и материал для своего изображения. Еще, наверно, будут темы мирового масштаба, так сказать мировые темы. Но, конечно, и всякие человеческие темы будут, и очень интимные. Кажется, что человек, например, насмотревшись всяческих экзотических деревьев во всем мире, вдруг по-новому почувствует и увидит нашу елку, и не потому, что она родная, а удивится ей как чудесному событию. Когда представляешь будущее общество, то думается, что искусство будет пронизывать всю жизнь и люди будут почти все, или все, жить искусством и, может быть, все будут художниками. Странно было бы, чтобы люди не прикоснулись к этому замечательному делу. И тогда будет масса нюансов в искусстве общества. Будет искусство инженеров, физиков, математиков, химиков, сельских работников и т. д.; и, конечно, не в том суть, чтобы они по воскресеньям писали пейзажики, а чтобы открывали в своих произведениях разные черты общего искусства. Еще есть черта, которая должна в будущем усилиться. Художественное произведение двояко. В нем образное сочетается в одно целое с вещностью произведения. Например, памятник, он сочетает в себе и образ человека, и деталь города, в который он входит и живет там с архитектурой. И чем больше человек будет чувствовать себя хозяином мира, тем более он будет учитывать вещность художественного произведения, преобразующего и организующего этот мир. И в связи с этим — о синтезе пластических искусств. По-настоящему надо сказать, что мы так и не осуществили синтез искусств, и думается, что будущему искусства будет принадлежать решение этой задачи. Но тут нужно заметить, что только художественное произведение, образное и вещное, в то же время способно войти в синтез искусств, а будущее, как это чувствуется по полноте жизни, не может миновать этих задач. Кроме того, когда думаешь о будущем искусстве, то трудно оторваться от сегодняшнего момента и будущее понимаешь как далекое, но продолжение нашего времени. Теперь в искусстве часто встречаются героические темы, и странно думать, что героизм нашей жизни заглохнет в каком-то будущем, когда мы достигнем какого-то идеала, общего счастья или чего-то подобного. По-видимому, героический характер нашей жизни будет продолжаться, а следовательно, и темы нашего искусства будут такими. Но и сейчас героика в жизни несет на себе черты простоты. Героическая тема потребует монументальности, а монументальность пусть будет сочетаться с простотой. Героика и простота — вот, мне кажется, черты будущего искусства. Октябрь 1961 года 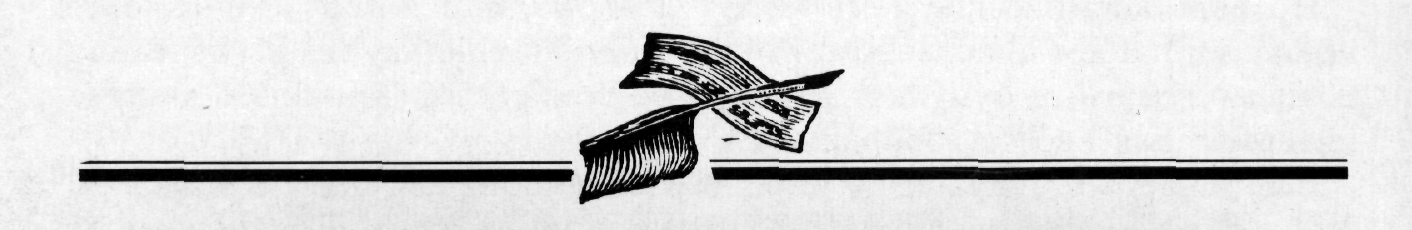 Ответы на анкету журнала «Искусство» 1. Какие наиболее важные проблемы нашей художественной жизни должны быть, по Вашему мнению, поставлены и обсуждены на съезде? Перед нами стоит вопрос о влиянии культа личности на наше искусство. Прежде всего мы строго должны посмотреть, где эта тенденция нам портит нашу практику. Конечно, старшие художники умели этого избежать, но многие средние подвергались официозным заказам и официозной критике. Хотелось бы, чтобы художник имел свою тему и относился к ней горячо, чтобы ему не приходилось слышать, что «любовных свиданий» и «прощаний с матерью» достаточно. Всякое произведение, горячее и личное, должно встречать внимательное, теплое отношение. И это возможно шире, так как никто не знает, где настоящее искусство зародится. А вообще, мне кажется, к станковой живописи слишком много внимания. Графика и монументальная живопись должны превалировать. И особенно шаткое положение у станковой живописи, которая рассказывает какой-нибудь сюжет, а эстетически ничего собой не представляет. Станковая графика и монументальная живопись и их место в художественном быту — вот проблема. 2, В последние годы заметно активизировались творческие поиски художников (особенно молодых) во всех областях изобразительного искусства. В каком направлении могут и должны развиваться эти новаторские искания? Это хорошая черта нашего искусства, что молодежь развивается и ищет. Молодежь для меня делится на честных художников и якобы новаторов. Их я ясно различаю. Честная молодежь старается учиться у таких художников, как Кончаловский, Сарьян, Кузнецов, Дейнека, и искать правду, чего незаметно у якобы новаторов. У них превалирует фантазия. У честных художников кое-что получается, и к этому нужно относиться очень осторожно, не месяцы, а годы решают этот вопрос. Хотелось бы слышать: «я сейчас не понимаю это произведение, должен подумать», а не отрицать легкомысленно. Естественно, что новые темы в - искусстве дадут и новаторство в искусстве. И это должно быть широко. А сейчас бывают попытки какую-то группу выделить как благополучную, а другую группу как раз объявить еретиками. А поле искусства должно быть большое и искания должны быть смелые. 3. Известно, что в последнее время в советской архитектуре наметились серьезные сдвиги. Наши зодчие стремятся в строительстве отдельных зданий и целых ансамблей к простоте, ясности и конструктивности. Каковы в связи с этим задачи наших художников-монументалистов? Какими образно-пластическими свойствами должно обладать нагие монументально-декоративное искусство? Монументальная живопись в архитектуре, конечно, должна подчиняться архитектуре. Но в иных случаях она может уничтожать стену. Это неправильно. В иных случаях трактоваться как пятна на стене, это тоже неправильно. Раз живопись допущена в архитектуру, она должна влиять на стену, преобразовывать ее, действовать по принципу контраста. Например, в древнерусской архитектуре толстый массивный столб расписан травками. А такой принцип, что живопись лежит на стене совершенно плоско, не преобразует ее,— недопустим. Входить в архитектуру, только чтоб ей не помешать,— жалкая задача. Только действенное преобразование архитектурных поверхностей — задача художника. Февраль 1962 года 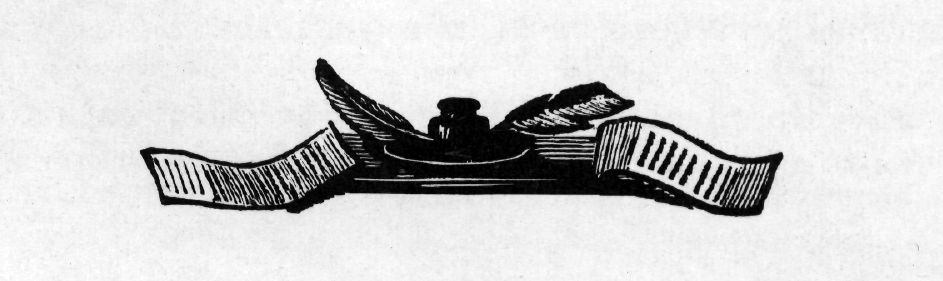 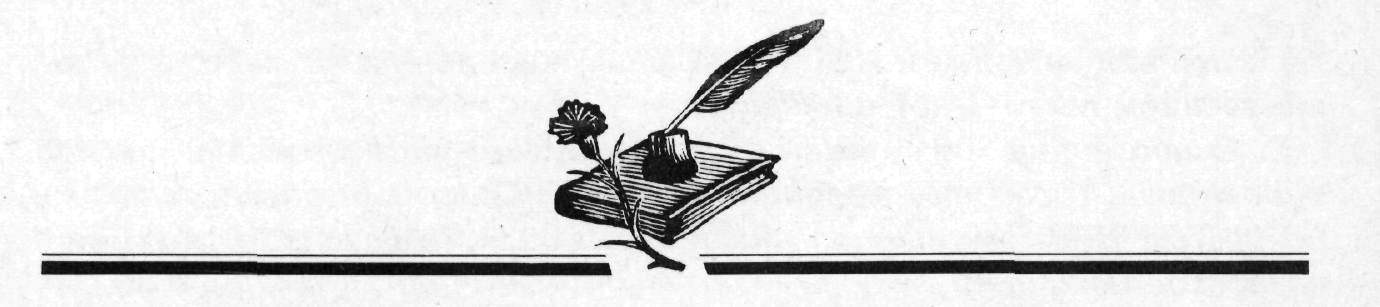 Глаз художника — глаз первооткрывателя Меня иногда спрашивают: хотел бы я построить свою жизнь иначе? Например, стать живописцем? И я отвечаю: нет. Прожитые мною семьдесят шесть лет дают право на столь категорический ответ. В молодости я учился живописи. Мне сулили успех. Возможно, я даже стал бы хорошим живописцем, но предпочел графику. Предпочел как изобразительное искусство, более доступное людям, чем живопись, как искусство массовое. Созданное живописцем полотно могут увидеть только посетители музея. Графика способна войти в каждый дом то в виде книжной иллюстрации, то в виде эстампа (собственноручного оттиска с авторской подписью). И вполне понятно, что в эпоху революций, духовного подъема народных масс, когда неизмеримо вырастает тяга к изобразительному искусству, графика играет важнейшую роль. Впрочем, не только графика, но и настенная живопись — фреска, мозаика. Этому массовому и любимому мной виду искусства я тоже некогда уделял немало сил и времени. Порой раздаются высказывания, что книжная иллюстрация и на-стенная живопись обкрадывают возможности художника. Убежден, что это совершенно не так. На первый взгляд, действительно, художник ограничен в своих возможностях творческими замыслами писателя или архитектора. Но вместе с тем художник становится и соавтором, который, не искажая первоначального замысла, обязан сделать произведение более прекрасным, гармоничным, доступным еще большему числу людей. От некоторых молодых художников и писателей мне часто доводилось слышать [вопрос]: как стать оригинальным? В первую очередь — не думать об этом. Оригинальничание обедняет, обкрадывает искусство. Оно обычно идет рука об руку с выхолащиванием чувства, мысли, правды. А ведь индивидуальность художника проявляется в первую очередь в умении видеть натуру. Вспоминаю такую наивную историю, возможно, слишком наивную для опубликования в печати. Однажды со своим маленьким внуком я впервые отправился гулять в поле. По дороге он увидел теленка и восторженно закричал: «Дедушка, у него четыре ноги!» Мне думается, что вот так же восторженно, глазами первооткрывателя должен смотреть на окружающий мир художник. Каждая его работа должна предстать перед людьми как откровение, заставляющее их взглянуть на привычные, примелькавшиеся вещи и явления по-новому. К этому я всегда стремился в своем творчестве. И если хоть когда-то, хоть в чем-то достигал этого, значит прожитые годы прошли не зря. Апрель 1962 года 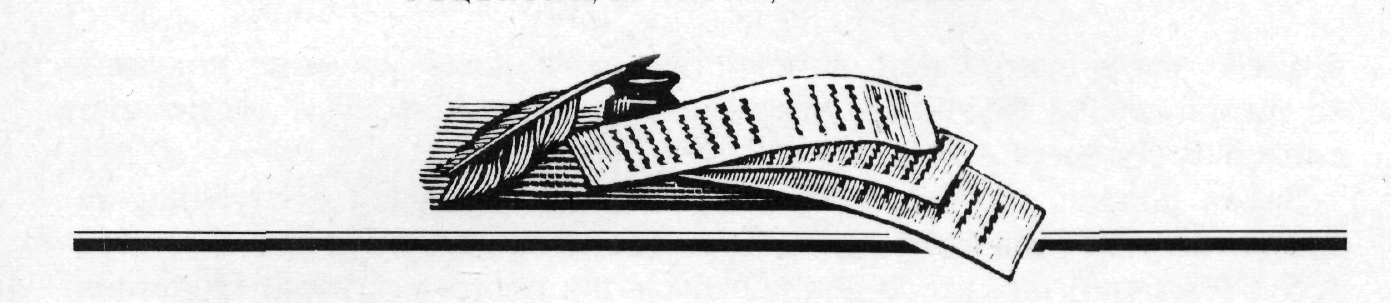 По поводу присуждения Ленинской премии Я очень рад, что отмечен такой высокой наградой и, между прочим, тронут, что обратили внимание на мое родное искусство — искусство книги, и я думаю, что это честь для всех художников-граверов, работающих над книгой. Я, конечно, не решаюсь сказать, что Ленину мои гравюры понравились бы, но что тут Пушкин — это ему наверное понравилось бы. Искусство гравюры в книге и станковой гравюры у нас процветает и очень хорошо развивается, и если так дело пойдет, так будут товарищи работать, то наше искусство гравюры достигнет больших успехов. Граверы обращаются к жизни, едут на целину и в то же время сложно развивают черно-белый колорит и обогащают тем гравюрные средства. Апрель 1962 года 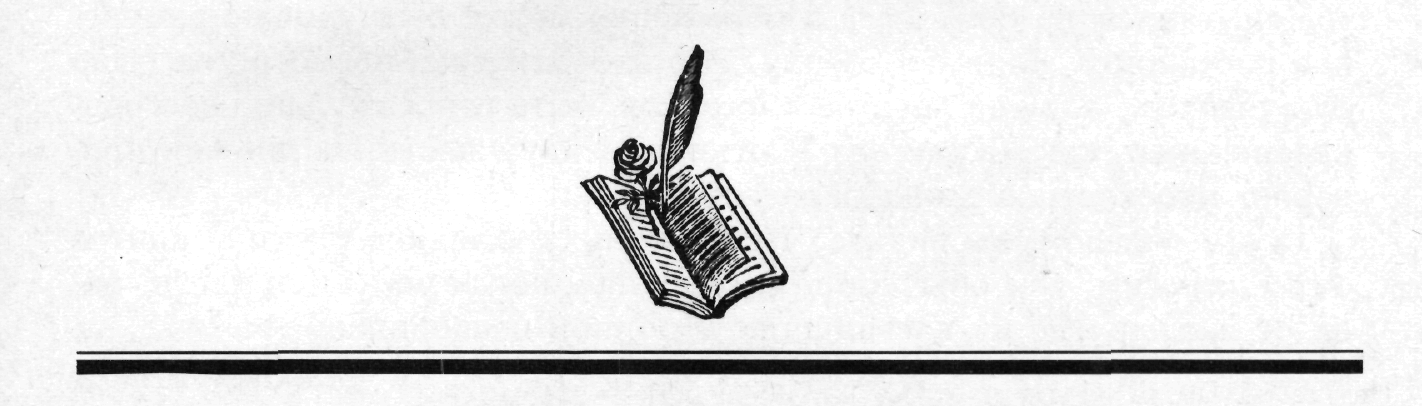 О рисунке Я много раз возвращался к этому вопросу: как преподается рисунок в наших вузах. Думают, что рисунок может быть объективным, можно рисовать объективно. И потом, научившись как бы точно передавать натуру, художник, окончивший вуз, должен на свой страх и риск немного испортить натуру, то есть соврать, и этим придать ей «художественность». Мне казалось, что преподавать нужно художественный рисунок, главная тема которого — знакомство с изобразительной поверхностью, с ее законами и с умением достигать при ее помощи цельности изображения. Таким образом, преподавание рисунка должно быть строгим, точность должна ему сопутствовать. Не говоря уже о том, что должны изучаться пропорции натуры, как фигуры, так и портрета. Программа этого рисунка может быть следующая. Прежде всего нужно, чтобы человек видел силуэт фигуры и силуэт не неподвижный, а какими-то частями лежащий на бумаге, сроднившись с изобразительной плоскостью, а какими-то — выступающий из плоскости, а другими — уходящий за плоскость. Так достигается сложный профиль. Затем должен изучаться пространственный рельеф — глубина, подобно тому, как мы видим у Рембрандта на офорте «Женщина со стрелой». Конечно, для этого должна быть поставлена натура. Постановка будет отличаться тем, что передняя плоскость ярко выражена, и тем, что эта плоскость двигается в глубину через все формы. И тут важен следующий прием: в глубину идти от двух точек к третьей, таким образом создавая двумя точками план; а затем идти в глубину, тем самым все углубляя и углубляя рельеф. Это должно быть изучено в первую очередь. И на этом будет ясно видна цельность вещи, цельность изображаемого. Задача очень строгая. Затем может быть поставлен рельеф с пропущенным передним планом. Задание — пропущенный передний план, внимание — на втором плане. Первый план подчиняется второму. Очень частое явление при изображениях с натуры. Затем должно быть изображение больше, чем поле зрения. Как бы изображая, ты должен немножко взглянуть направо и налево и подчинить боковые области центру. Таким образом создается изображение, в котором мы находимся, в котором мы участвуем. Попутно должны изучаться бинокулярность — движение близкого и далекого в нашем восприятии, и моменты обратной перспективы, которые передают движение задним планам и боковым областям. Испытанием на цельность изображения может быть сильно ракурсная постановка, видимая сверху. Это изображение, несмотря на свою ракурсность, должно лечь на плоскость, быть относительно нее уравновешенным, как «Христос» Мантеньи. Ракурсность постановки проверяет плоскостность изображения. Таким образом, вы видите, что такое преподавание рисунка явится более строгим, чем обычное преподавание, когда рисуются части, одни от нас, другие на нас идущие, в полном беспорядке. 20 декабря 1962 года 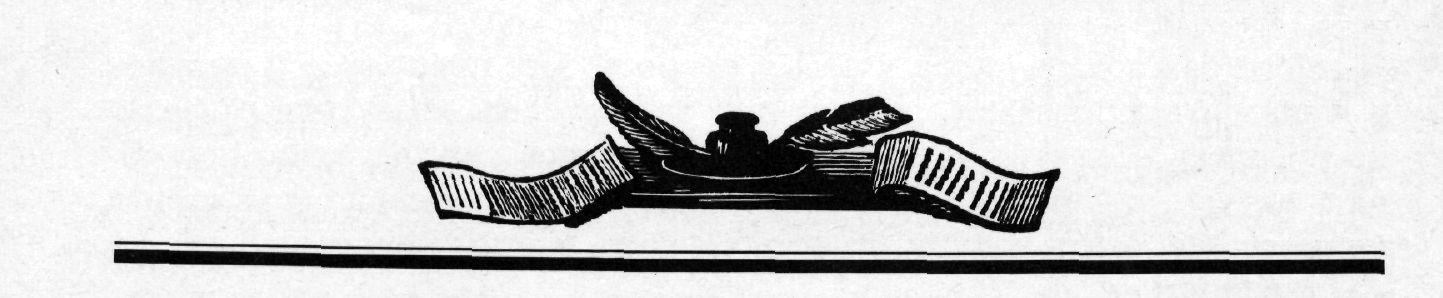 Для Пушкинского музея Когда я не занят рисованием, то иногда думаю об иллюстрировании вещей, которые я не иллюстрировал, и, по большей части, я не знаю, как их иллюстрировать. Перебираю. Думаю. Все не выходит. У меня есть много таких вещей. Между прочим, поэма Пушкина «Евгений Онегин». Как изображать повесу-чудака, сидящего три часа перед зеркалом? И вот я подумал однажды, что если в основе поэмы «Евгений Онегин» находится Татьяна с ее любовью к природе, к деревенским обычаям, к народу, то все становится иначе. Недаром Пушкин назвал ее «мой верный Идеал». Тогда и Онегин получает свое место. Это одно. Другое, мне кажется, что ироническая характеристика Онегина Пушкиным как бы умаляет его. Он отщепенец, чудак. Но каково общество? Оно только отрицательно характеризуется Пушкиным. Мне кажется, что иллюстрации нужно начинать с момента, когда Пушкин с Онегиным стоят у Невы: «Я был озлоблен — он угрюм».Тут Пушкин его приближает к себе, равняет на себя и сообщает ему всю серьезность. Какое счастье, что Россия имеет Пушкина! Его существо чрезвычайно солнечно. В то же время его чувства и мысли — человеческие, не необычайные, только необычайны чистотой и высотой, и поэтому мы можем к ним приобщиться. В то же время его произведения по темам оригинальны. И «Скупой рыцарь», и «Пир во время чумы», и «Медный всадник» и другие. Как же страшно иллюстрировать его! Но помогают его строгость и определенность. [Нач. 1963 года] 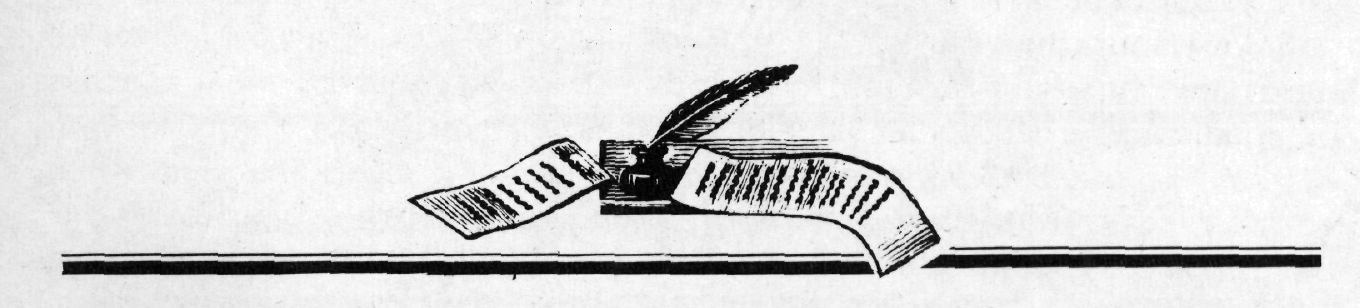 Высказывание к международному кинофестивалю в Москве Киноискусство очень богато средствами: и натура, и актер, и литература, и пластика, и главное — человек с богатством его чувств. Все это обязывает. Но мне, в частности, как изобразителю импонирует съемка живого, движущегося подвижным аппаратом. Поэтому пусть от эпохи останется больше документов. И в съемке развивается особенное мастерство. Желаю киноискусству продолжать и развиваться в высоких традициях — быть простым и героическим, чтобы быть первым среди искусств. Май 1963 года 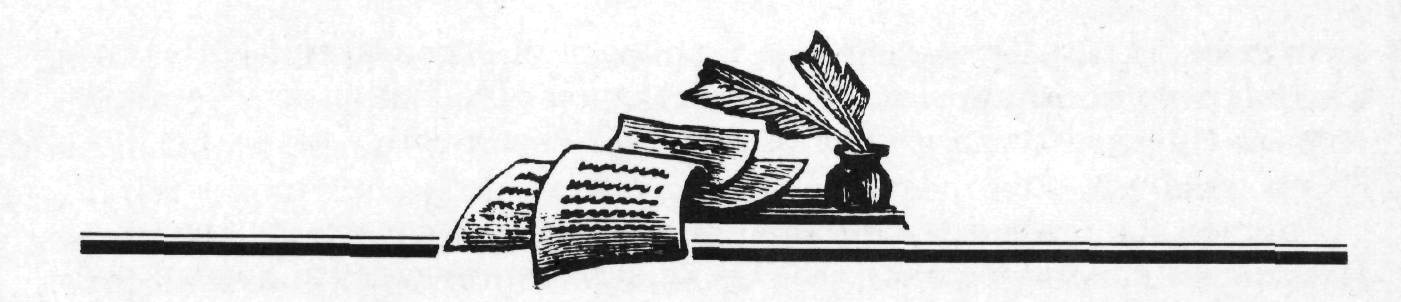 О книге («Так держать!») Мы пережили довольно длинную историю выработки методики оформления советской книги. Если мы взглянем на начало этой работы, то чувствуем невольно в книжном искусстве уклон в сторону построения книги, шрифтовых экспериментов. Все, что вело к книжной конструкции, увидим. Постепенно психологизм литературных произведений привел к психологической иллюстрации. И тогда мы видим очень сильное развитие иллюстрации почти что станковой. Книга собственно не делалась уже. Все сводилось к серии иллюстраций, которые не учитывали книгу как таковую. Сейчас мы пришли, как мне кажется, к некоторому равновесию. Книга делается цельной, строится, иллюстрации входят в нее сугубо книжно, подчиняясь общему ритму и книге как таковой, подчиняясь цельному развитию книги. Это совпадает с лучшей печатью, с лучшим техническим выполнением, что особенно приятно. Я бы сказал: «Так держать!» [Май-июнь] 1963 года 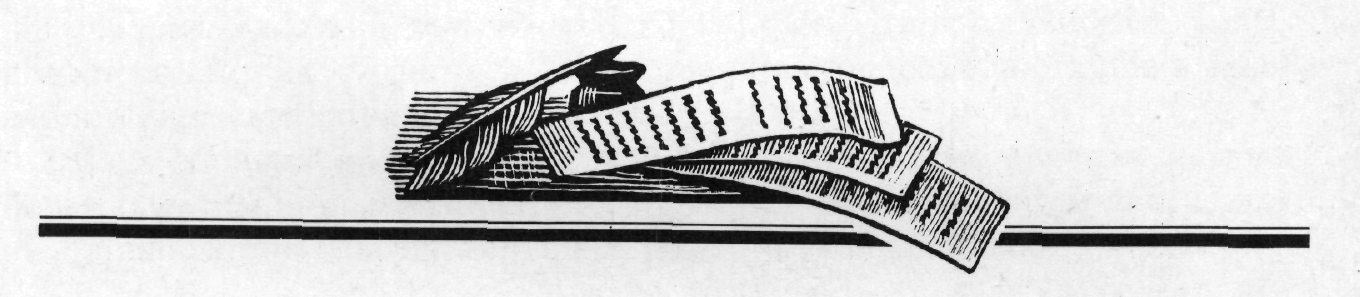 Что меня характеризует как художника Есть некоторые стороны в искусстве, которые для меня характерны. О них-то я хочу поговорить. Каждое искусство характерно своими средствами. Холст, краски и кисти — характерны для живописи. Живопись использует много цветов. А рядом существует графическое изображение, ограничивающее художника черным и белым, сокращающее его изобразительные средства. В одном случае — все богатство цветов к услугам художника; в другом случае он ограничен черным и белым и в этой гамме должен мыслить все цвета. Это графика, графическое изображение. Н-которые изображения ограничены в средствах, и тогда художник должен эти средства обогатить. Изобразить черным и белым все цвета. Изображать не снег и голые деревья и ворон, потому что они черные, а все многообразие природы, богатство цветное выразить черным и белым. Вот это искусство, ограниченное в своих средствах, для меня характерно. Я, график, должен, взяв черное и белое, передать все богатство оттенков, и это для меня характерно. Это одно. Кроме характерных черт, искусство усложняется обстоятельствами, которые сопутствуют иным искусствам. Живопись на холсте можно повесить на любой стене и перенести куда угодно. Она как не зависимая от обстоятельств может смотреться всюду. Так же и станковая графика. Не то в монументальной живописи. Она должна относиться к определенному месту, соотноситься с дверью, с окнами, венчать дверь или быть где-нибудь между различными архитектурными формами. Так бывает в монументальной живописи. Форма стены, форма места диктует точку зрения, откуда смотреть, как смотреть, и это влияет на композицию, на изображение. Но не только в монументальной живописи, а, например, в книге, мы видим, как влияет место на изображение. Не все равно — что на левой, что на правой странице, в начале текста или в конце, обложка это или титул, заставка или концовка. В книге все различно. И если обстоятельство влияет на изображение, совсем по-другому звучит изображение на правой и левой странице. Да, каждое место в книге различно, по-своему влияет на искусство, обусловливает его. Еще сложнее это в театре. Там характерно, как используется изображение: то это какой-то занавес, то это задник, то кулиса. И еще привключаются костюмы персонажей. Словом, все это, вплоть до пуговицы, художник должен сделать. Театральная постановка — очень сложное дело. Таким образом, искусство делится на сложные изображения и на простые, на обусловленные обстоятельствами и непосредственные. И вот, меня тянуло всегда к искусствам, которые усложнялись обстоятельствами места,— то есть монументальное, или книжное, или театральное. Правда, я рисовал, то есть занимался непосредственным изображением, но стремился к фреске, к стенной живописи, к книге и ее сложности, к театру. Это для меня характерно. Кроме того, в произведении искусства большую роль играет материал. Есть материалы, поддающиеся твоему желанию легко, подчиняющиеся воле художника, например глина. Мокрая глина отпечатывает пальцы, передавая их движения. Всё жидкая глина передает, любое прикосновение отпечатывается на ней. Начиная с каркаса, налепливается постепенно, образует то, что хотел художник, то, что он мыслил в голове. Другое — камень или дерево. С трудом художник вырубает фигуру в камне или дереве, камень сопротивляется и не легко подчиняется художнику. Но зато камень или какой-нибудь кусок материала помогает, подсказывает художнику форму того, что он хотел выразить. Художник как бы видит в материале то, что он создает. Так вот я люблю материалы, сопротивляющиеся художнику, с трудом обрабатываемые. Поэтому, между прочим, я любил гравюру и резьбу — скульптуру из твердых материалов — из дерева и слоновой кости. Если разобраться, то меня увлекало искусство сложное, обусловленное местом, как-то: стенная живопись или книжная графика; а также — трудность материала. Вот это для меня характерно. Эти черты характерны для моего искусства. Кроме того, я книжник-иллюстратор. И передать характер произведения — для меня очень важно. Вся сложность литературной тематики для меня интересна. В фреске или сграффито интересно делать большие фигуры, которые поэтому становятся особенно живыми. В театре сценическое пространство и костюмы делаешь для актера, чтобы ему было удобно и выразительно двигаться. Художник выступает очень разнообразно. [Июль-август] 1963 года 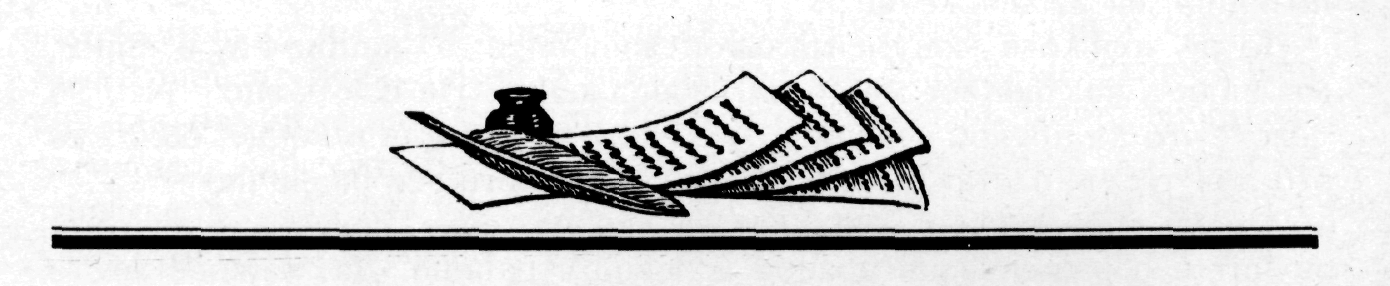 О рисовальщиках В Москве редко бывали рисовальщики. Рисунок большей частью понимался как подготовка к живописи, а не как самоцель, и не выставлялся. Конечно, были исключения, но редко. А у московских графиков это была подготовка к рисунку тушью или к гравюре. И вот к нам приехали из Ленинграда несколько рисовальщиков первого сорта и, надо признать, повлияли очень сильно на наше московское искусство. Среди наших художников были все-таки рисовальщики, и их, конечно, следует отметить, особенно по началу их художественной деятельности. Это Сергей Васильевич Герасимов, Николай Михайлович Чернышев, Михаил Семенович Родионов. Это отличало их от других художников. А в Москву в 1922—23 годах, в расцвет Вхутемаса переселился Лев Александрович Бруни — это был художник, опиравшийся прежде всего на рисунок. Он одно время жил у меня, в моей комнате, и однажды, в первые дни, увидев на стене мой рисунок, изображавший мою жену, рисунок, подготовленный для гравирования, сказал: «А Вы рисовать не умеете». Это была правда, в том смысле, что этот рисунок сам по себе ценности не представлял. Лев Александрович был замечательным художником, он был полон древних традиций, от его рисунков веяло то старым русским искусством, то Китаем. Я всегда думал о нем, что в его лице традиции не разрываются, а продолжаются. Лев Александрович Бруни был потомок, во-первых, Бруни художника-академиста, во-вторых — семьи Соколовых, акварелистов, и он, смеясь, говорил, что у него течет в жилах акварель. Рисовальщик он был особенный, использовавший цвет бумаги, цвет материала, акварели. Замечательный виртуоз акварели, он, употребляя экономно цвета, характеризовал ими предмет и пространство. Есть у него периоды, когда он рисует главным образом серой тушью, и очень красиво; его использование киновари очень интересно во многих его работах. Кроме того, что он был виртуоз, его можно назвать в известной степени импровизатором; он никогда не держался своего эскиза, а сделав эскиз, как следовало по договору, в дальнейшем рисовал сызнова. Термин «импровизатор» имеет как бы унижающий смысл. Я не хотел, чтобы это было. У него виртуозность и быстрота решения были замечательные. Про него рассказывают, что он, будучи в Гурзуфе в доме отдыха, на террасе увидел девушку, начавшую акварель; он показал, как нужно делать, и, в конце концов, тут же написал пейзаж. Кроме того, он понимал некоторые штрихи кистью как след какого-то движения, в этом походил на китайцев и японцев. Я помню, что когда я работал, резал что-нибудь или шлифовал скульптуру, то тряс стол, и он, работая тут же, увлекался движением стола и просил меня еще потрясти так. Затем приехали Львов и Митурич. Не помню, Николай Николаевич Купреянов приехал раньше или позже. Но, во всяком случае, они очень на него повлияли. Львов был механическим рисовальщиком, но добросовестным; он рисовал всюду — на улицах, в комнате; на него была нарисована карикатура, что он показывает свои рисунки извозчикам. Рисовал накрытый к чаю стол, в ожидании гостей. Было впечатление, что он откуда-то сверху рисует, а он рисовал со своего роста и отдалял стол от себя по перспективе. Но, во всяком случае, его постоянное рисование требовало к себе уважения. Рассказывают (они все учились в Академии в батальном классе), что однажды профессор поставил постановку — отступающие французы; это было перед большим окном, выходящим в сад, зимой; на первом плане были навалены табуретки, покрытые простынями, долженствующие изображать сугробы, и по этому как бы шли натурщики, одетые во французскую форму. Львов, рисуя это, добросовестно изображал все табуретки, которые все-таки чувствовались, и, сколько ни бился профессор, не мог поколебать Львова, отвлечь его от добросовестного рисунка. Митурич был художник совсем другого склада — суровый, серьезный, иногда даже жестокий. Стоит вспомнить его рисунок мертвого Хлебникова. Портреты его были очень сильные, но, когда он изображал пространство, мне кажется, что он слишком следовал прямой перспективе, механически ее применял. Он делил художников на художников и картинщиков и к последним был беспощаден. Черный цвет в его графике имеет большое значение. Теперь я хочу сказать о Николае Николаевиче. Купреянов был гравер, ученик Остроумовой, на нее совсем непохожий. В гравюрах штриховых он использовал крайнюю экономию штриха и тем не менее получал изображение. Это был человек очень скромный и добросовестный. Ему казалось, что материал, особенно гравюрный, сам по себе украшает, что он считал незаслуженным. Сперва это отношение к гравюре кончилось тем, что он решил связаться с Иваном Николаевичем Павловым и у него учиться. Я отговаривал его от этого. Говорил, что ничего художественно интересного он не может получить от Ивана Николаевича, а он, умаляя себя, все-таки поехал к Павлову. Конечно, ничего не получил. И его беспокойство о гравюре еще усилилось, и он, в конце концов, бросил гравировать, увлекшись рисунком, представителями которого были все три художника, о которых я говорил. С этих пор он начал, не останавливаясь, рисовать. Когда у него были гости или когда он гостил у кого-нибудь (у Льва Александровича на вечере я его видел), он рисовал и всю компанию, и отдельных людей. Помню, он рисовал пьяного Лентулова, который сидел в кресле и заснул. Еще характеризует его то, как он относился к делу. Мы предложили ему литографскую кафедру, он литографии не знал и, чтобы овладеть ею, отправился в литографское отделение Первой образцовой и там все изучил. Это был человек, который все делал, считаясь с правдой. Иногда даже, особенно к себе, жестокий. Он был в юности, должно быть, верующий, потом он не верил, но заставил себя работать в журнале «Атеист», чтобы довести до конца свое решение. Мне казалось, что, будучи правдивым, болезненно правдивым, он если при встрече с кем-нибудь скажет доброе слово механически (а он презирал некоторых людей, а некоторых очень любил), он мог вернуться, догнать человека и сказать ему, что он его презирает. Гравером он был хорошим, но рисовальщик и акварелист — замечательный. Он мечтал о масляной живописи, а не успел. P.S. Я не считал себя рисовальщиком, особенно в таком окружении, но Николай Николаевич почему-то попросил меня нарисовать его портрет. И я рисовал его. Но у меня несколько не получилось. Этине удачные портреты у меня хранятся. Было довольно голодно, и это действовало. Наконец, в третий раз (или какой другой — не помню) я достал бутылку вина и выпил немного, оживел и нарисовал его более или менее хорошо. Сейчас этот рисунок должен быть у его сына. Боюсь предположить, но мне кажется, что этот рисунок он хотел оставить после себя, рассчитывая на смерть свою. 23 августа 1963 года  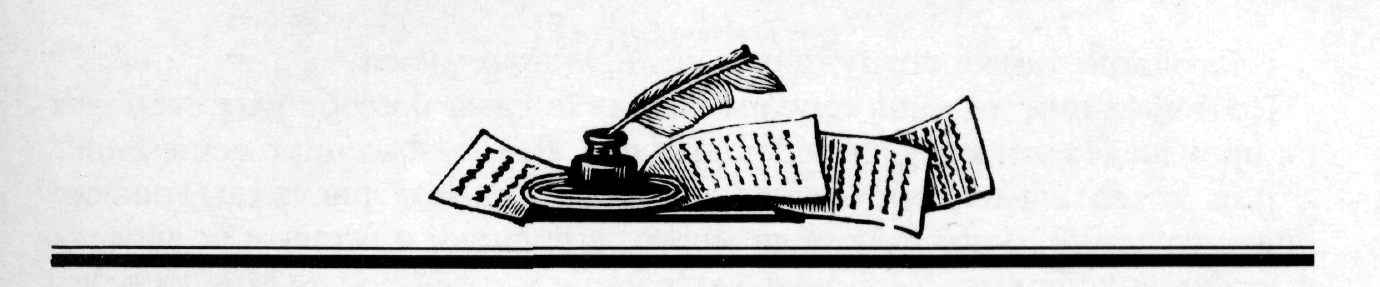 Для каталога собственной выставки Когда тебе предъявляют анкету, и первый вопрос в ней, что ты хотел своим искусством выразить, и на кого повлиять, и с какой целью обратился к своему искусству — этот вопрос застает тебя неожиданно. Искусство у меня началось с другого. Начал рисовать, потому что рисовала мать, а она рисовала потому, что дед был художником. Дед и мать были художниками, таким образом, создалась художественная линия в семье. Я воспринимал рисование как приятное занятие, не собирался кого-нибудь поучать или вести за собой, конечно, в будущем, когда буду взрослым. А когда вошел в мир искусства и понял красоту его, то захотелось, чтоб другие также видели его, научить их видеть этот мир. Потом с искусством, с его задачами связались разные проблемы, и искусство стало до того обширным, что обнять его едва ли возможно. Но по мере сил решаешь их на разных поприщах, главным образом в гравюре и книге, затем в стенной живописи, в монументальных решениях, а также в театре и везде, где приходилось работать. Тут, конечно, помогли художники, которых особенно любил. Вначале меня очаровал Джотто и вообще ранние итальянцы, потом явились и другие художники. Из русских — иконописное древнее искусство, и Александр Иванов, и Врубель, которые показали, каких недоступных высот может достичь искусство, к чему можно стремиться. А почему я стал главным образом гравером? В мое время, во время моей молодости, печатное дело было совсем иное. И гравюра была не роскошью, а насущной потребностью, так как техника цинка была почти утрачена, гравюра исполняла насущную роль в печати. Без нее не могло бы быть изображения. Я втянулся в это и стал работать. 15 июля 1964 года 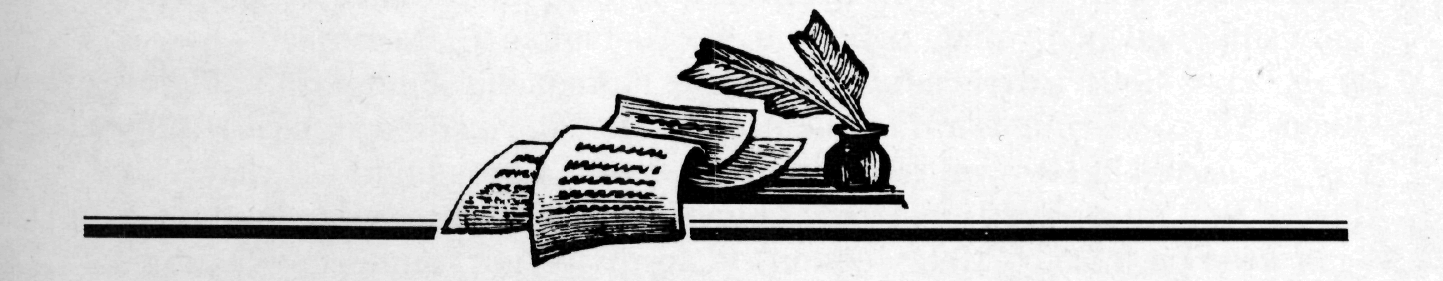 Речь на открытии собственной выставки Разрешите прежде всего поблагодарить вас за посещение моей выставки. Затем я благодарю работников Гравюрного кабинета и во главе их благодарю очень Евгения Семеновича Левитина. Он сделал прекрасную выставку. Благодарю также сотрудников и дирекцию музея. По дошедшим до меня слухам выставка сама по себе уже становится произведением искусства экспозиции. Я, к сожалению, ее не видел. А я хотел бы обратить ваше внимание на мои рисунки. Гравюры оценены давно, о них говорили много, а рисунки я в таком количестве выставляю впервые. Хотел бы знать ваше мнение о них. Мне кажется, когда твое искусство проверяется натурой, то это очень важно. Виденье натуры влияет на все твое искусство. И мне хотелось бы слышать от вас оценку моего рисунка. Благодарю всех художников, с которыми я в жизни встречался и кем наше богатое искусство представлено. Моими товарищами, влиявшими на меня, помогавшими в художественной жизни, были: Павел Кузнецов, Николай Михайлович Чернышев, Лев Александрович Бруни, Николай Николаевич Купреянов, Константин Николаевич Истомин, Сарра Дмитриевна Лебедева, Александр Терентьевич Матвеев, Павел Яковлевич Павлинов, Михаил Семенович Родионов, Мартирос Сергеевич Сарьян, Сергей Васильевич Герасимов и многие другие. [Ноябрь] 1964 года 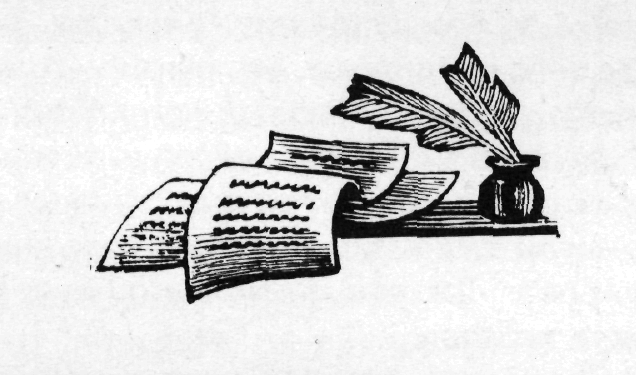 |
