Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
ЧАСТЬ ПЯТАЯ Рецензии, заметки, интервью... Рецензия на рукопись книги Н.М.Тарабукина «Проблема пространства в живописи» Забыть «игру в инженера». (Какому быть институту художеств?) Реализм в детском рисунке О войне. О Крымове О тенденциозности искусства Какие вопросы следовало бы поднять на дискуссии о положении нашего искусства Мы сегодня чествуем Ивана Семеновича Ефимова... О дискуссии «Традиция и новаторство» Об Александре Андреевиче Иванове К съезду художников. (Против пассивного копирования) Мы читаем книгу «Слово о слове»... Выступление на Первом Всесоюзном съезде советских художников Воспоминания о профессоре Холлоши В чем суть искусства Некоторые мысли о нашем искусстве О художественной правдивости и о художественной честности О древнерусском искусстве То, что нужно сказать в телевизоре об искусстве для ребят По поводу абстрактного искусства По поводу «абстрактивизма в искусстве» Что я хотел высказать на конференции Союза художников по искусствоведению Размышления об искусстве будущего Ответы на анкету журнала «Искусство» и другие материалы 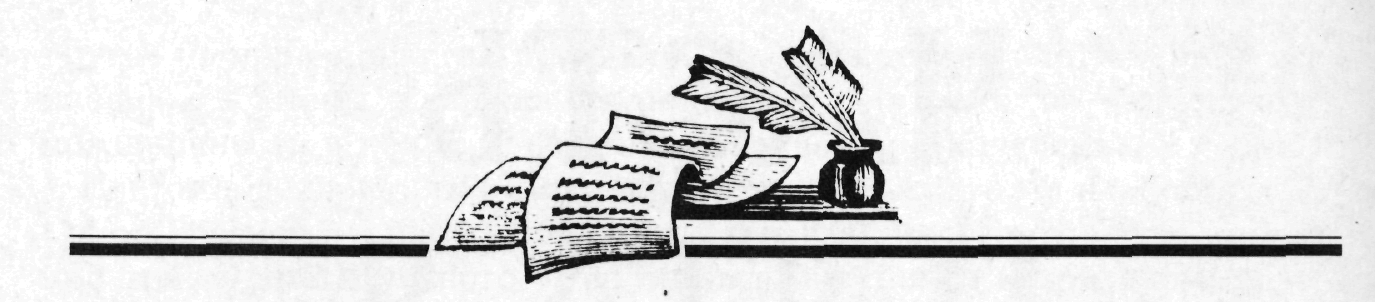 Рецензия на рукопись книги Н.М.Т арабу кипа «Проблема пространства в живописи» Книга Тарабукина «Проблема пространства в живописи» внимательно просмотрена мной. Давая о ней отзыв, я прежде всего выражаю очень определенное желание, чтобы книга была обязательно напечатана. Совершенно нет литературы по данным вопросам на русском языке, и, ведя курс по теории композиции во Вхутемасе, я лично очень сильно этот недочет чувствую; думаю, как и всякий лектор по формальным дисциплинам. Оказываешься буквально без рук и проработка какого-либо курса студентами чрезвычайно трудна или совсем невозможна. Конечно, очень еще далеко то время, когда эта подсобная литера-тура будет носить характер выраженно академический, но поэтому именно никак нельзя пренебрегать такими трудами, как данный, так как совершенно объективный подход к предмету создается поколения-ми, и только допуская к печати такие содержательные и культурные работы, как работа тов[арища] Тарабукина, мы достигнем объективности. Переходя к самой работе, я должен сказать, что со многими положениями в книге и со многими терминами и их применениями совершенно не согласен (напр[имер]: термин «априорность пространства»;замена термина «обратная перспектива» термином «эксцентрическое пространство», содержание понятия «пейзажного стиля»; слишком явный перевес внимания к периодам после Ренессанса в ущерб более древним эпохам и т. п.). Но я от подробного разбора считал бы возможным уклониться, так как никаких исправлений предложить не могу — это противоречило бы всей системе понятий и терминов автора и введение таких исправлений было бы только искажением цельного изложения. Что, мне кажется, могло бы быть исправлено без ущерба для работы — это дискуссионный тон последней главы, рассматривающей искусство 20 века, где автор позволяет себе вступать в теоретические пререкания с художниками, что лишает изложение объективности. [Ок. 1922—1923 годов] 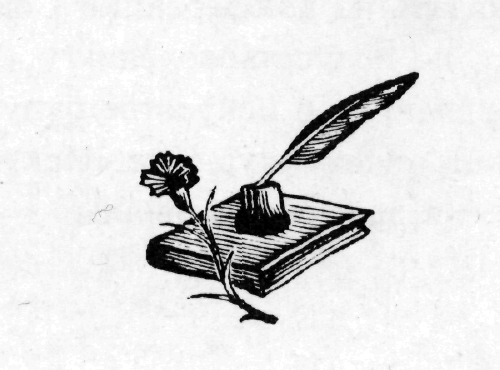 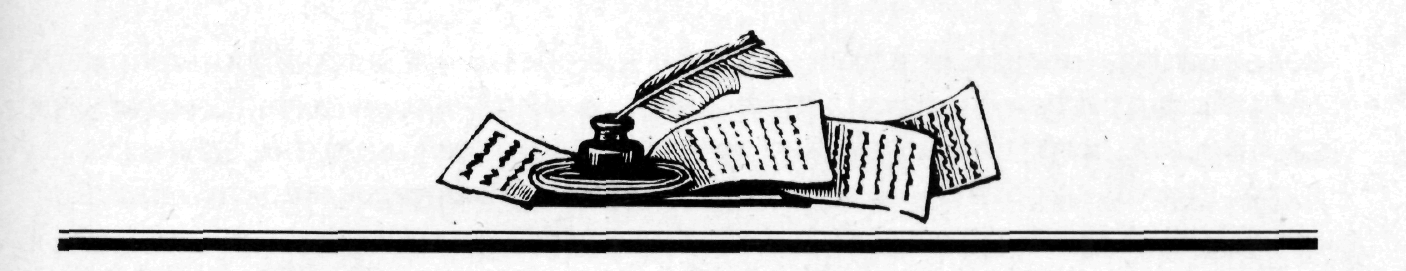 Забыть «игру в инженера» (Какому быть институту художеств?) Ликвидировать противопоставление производственных и станковых искусств — таково основное требование при организации нового художественного вуза. Такое разъединение существовало и существует, и несомненно, что оно приводило, с одной стороны, к декоративизму, а с другой — к узкому пониманию идеологической изобразительности. До сих пор существуют теории, утверждающие, что изображение станковое предосудительно или что предосудительно конструирование. Это в корне неправильно и вредно как для искусства производственного, так и для искусства станкового. Если первое можно понять как, главным образом, оформляющее быт, а второе, главным образом, как идеологически-изобразительное, то эти характеристики нужно считать только уклонами, которые свойственны и тому и другому искусству; и если картина изобразительна и идеологически содержательна, то идеологически содержательной должна и может быть форма обиходной бытовой вещи; и, обратно, картина должна рассматриваться как вещь, входящая в быт и его вещественно оформляющая. При таком понимании будет изжито нереалистическое отношение к оформлению в той и другой области искусства, то есть декоративистическое обессмысливание изображения в текстиле, керамике и т. п. и односторонняя обусловленность станковой картины, ведущая к крайней иллюзорности. По-видимому, понимая всякую художественную дисциплину как одновременно и организующую и изобразительную, мы получим органический подход к искусству, свойственный органически строящемуся обществу, где искусство по существу входит в жизнь и все — от формы кувшина до картины — идеологически насыщено и организует быт. Естественно, что такое отношение к искусству возможно только в нашем обществе, а отнюдь не в капиталистическом с естественным для последнего декоративизмом и крайним иллюзионизмом. Мне кажется, что будущий вуз в своей организации необходимо должен учесть этот момент, и, следовательно, совместное существование в вузе производственных и станковых факультетов и их методологическая и всякая другая связь, ведущая к живому взаимоотношению, влиянию друг на друга и помощи друг другу, должны быть обеспечены соответственной организацией. Другой момент, который должен быть учтен при построении нового вуза,— это необходимое наличие в нем крепкого методического ядра, обеспечивающего возможно более объективный подход к вопросам восприятия (композиции) и формы идеологии и идеологии формы. Чем школа сильнее устремлена в жизнь, а наша школа должна готовить кадры для сегодняшнего дня, тем сильнее в ней должно быть такое ядро, иначе, как это было с Вхутеином, школа может выскочить из себя через свою функцию и тем себя уничтожить. По-видимому, это тоже должно быть учтено структурой вуза, и либо в форме реорганизованного основного отделения, особо выделенного, либо в виде методического совета, объединяющего дисциплины, но во всяком случае такой центр, общий для всех факультетов, необходим. Теперь, если говорить о недостатках Вхутемаса и Вхутеина, а о них необходимо говорить сейчас особенно тщательно, то возможно указать на следующее. В старой школе мы имели в наличии производственные и станковые факультеты, но они не были методически связаны и часто друг друга просто не признавали. Например, факультет деревообделочный никакой связи не имел с архитектурным, что, естественно, крайне сужало задачу первого и не расширяло установок последнего. И так более или менее со всеми факультетами, связь между ними была скорее механическая. Она осуществлялась еще через основное отделение во Вхутемасе, но при ослаблении его роли естественно наступил распад школы. Жизнь расхватала ее факультеты, не объединенные ничем, и школа, выскочив в жизнь, сама себя уничтожила. Как мне кажется, школа, раз она существует, раз не само только производство создает кадры, должна быть методически тем крепче, чем больше она связана с производством и жизнью. Недочетом старого вуза можно считать сознательную и бессознательную, корыстную и бескорыстную игру в инженера, чисто механическое перенесение всех норм производственных практик и т. п. с технических вузов на художественный. Наконец, недочетом, правда, объясняющимся объективными обстоятельствами, является большая неполнота и крайняя несвязанность искусствоведческих циклов и непонимание их как идеологически ведущих школу. Малый изобразительный выход в жизнь, в производство, отсутствие командировок на зарисовки — вот приблизительно все, что можно сказать о недочетах старой школы, которых нужно избежать в организации новой. Мне бы хотелось несколько слов сказать о станковом отделении живописного факультета, так как его средства и задачи несколько отличают его от других отделений. В старой школе, по моему мнению, почти на всех факультетах, и особенно на основном отделении, коллективный метод преподавания и программная сговоренность вели к большей методичности, объективности и содержательности дисциплин, а на станковом отделении это же обстоятельство приводило в конце концов к нивелировке, подлаживанию друг под друга, примитивизму и схематизму в заданиях и методах. Как мне кажется, это можно объяснить следующим. Чем обусловленнее какой-либо метод изображения и материалом, и средствами, и условиями восприятия, и целью, и тематикой, тем легче договориться о возможно более объективном методе преподавания; чем менее этой обусловленности, тем труднее методический подход. Станковая живопись как раз является дисциплиной наименее обусловленной. Поэтому, мне кажется, о станковом отделении нужно как-то по-особому думать. С одной стороны, возможно усилить, обострить моменты обусловленности станковой живописи (главным образом тематическую обусловленность) и тем самым понять ее как высокое ремесло картины (жанра, пейзажа, натюрморта и т. д.), с другой стороны, дать возможность существовать этому отделению как экспериментально-станковому, причем тем самым идеологическая устремленность недолжна отпасть. Малая обусловленность станковой живописи позволяет как раз ей ставить формальный эксперимент, тем самым как бы создавая изобразительный тип, влияющий на другие искусства. Повторяю, что этот эксперимент должен в нашей школе быть идеологически сознательным, но, мне кажется, что школа в своей организации станкового отделения не должна его понимать как только станково-картинное, но и станково-лабораторное. Апрель—май 1932 года 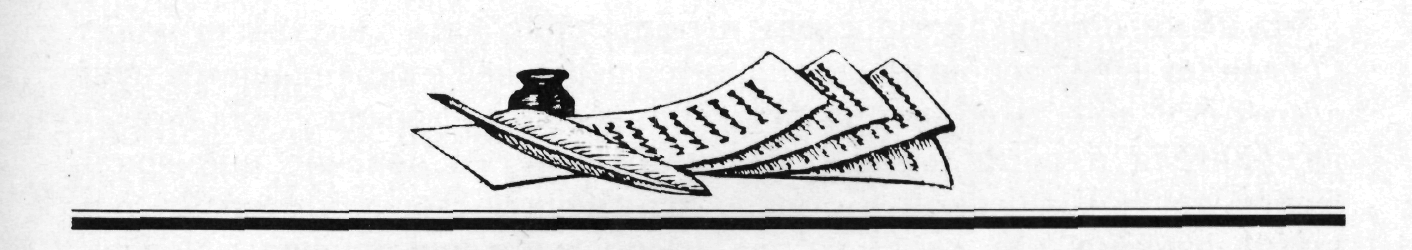 Реализм в детском рисунке На опыте детского рисунка нам становятся ясными самые простые, но и самые насущные цели изобразительного искусства. Освоение действительности вообще и освоение действительности при помощи ее изображения — вот что стоит перед ребенком, всегда деятельным и творчески активным. Отсюда детский рисунок, как правило, отличается реалистическим отношением к действительности и к тому материалу, с которым ребенок сталкивается при изображении. Всякое восприятие действительности, а восприятие ребенка в особенности, есть уже в какой-то мере изображение этой действительности. Но какими же средствами? Взрослый часто удовлетворяется схемами как результатом восприятия действительности, и поэтому восприятие его будет не образным, а отвлеченным. Он привык к своему телу, оно для него не новость и осваивать его, как и пространственную природу, взрослый часто считает как бы ниже своего достоинства. Другое дело ребенок. Для него и пространственная действительность осмысливается функционально, как собственное движение и собственное тело, является чем-то еще неизвестным, что нужно узнать и к чему нужно прислушиваться. Выздоравливающий, вставший с постели мальчик сказал мне:
Ребенок становится как бы актером и всем своим существом изображает воспринимаемый предмет. Руки, ноги, торс, голова, поверхность тела, функциональная цельность движения — бега, прыжка, чувство равновесия, чувство своего профиля по преимуществу и в редких случаях фаса — все это дает образный материал восприятию, придает его результатам материальную осязаемую конкретность. У ребят это можно считать типичным методом восприятия природы. На этой почве у них развивается игра в себя — он и паровоз, он и вагон, и автомобиль, и всяческий зверь, с непосредственным ощущением, что чему в изображаемом и изображающем соответствует. Я присутствовал при споре ребят — где у паровоза фонари,— причем ребята указывали места на своем теле — лоб, плечи, грудь. Мальчик, рассказывающий про собаку с черными пятнами, рисовал их пальцем у себя на теле. Мальчик, рисуя скачущую лошадь, изображал ее передние ноги, как руки с согнутыми локтями, и т. п. Для ребенка характерно вживание в предмет, актерское изображение предмета собой, понимание функций предмета через свою функциональность и уподобление себя предмету и отсюда особое пространственное восприятие предмета. Мальчик, подражая взрослым, пытается рисовать с натуры игрушку. Он кладет перед собою бумагу, садится перед ней с карандашом в руке, а игрушку, то есть объект изображения, берет под мышку, как близкого приятеля, и, поглядывая на нее, изображает ее, конечно, в профиль. Перед другим ребенком я ставлю игрушечную лошадь относительно него в ракурсе. Он, глядя на нее, изображает ее в профиль. Девочка рисует с натуры картонный дом и рисует его с тремя видимыми стенами. Я ее убеждаю, что она не видит со своего места всех трех сторон сразу, а только две. Тогда она, в угоду мне, начинает прыгать с одного места на другое и продолжает рисовать с двух точек зрения. Все это указывает на особенности детского восприятия действительности и, как следствие этого, на особенности детского изображения. Ребенок, воспринимая действительность, ощущает ее всем своим телом и тем самым ярко и образно представляет форму предмета, его функциональность, не учитывая при этом точки зрения и всех значительных моментов восприятия, как-то: ракурсов, сокращений, загораживания предметов друг другом и т. п. Поэтому ребенок воспринимает вещь как бы сразу, со всех сторон. Совсем неважно, как, какой стороной повернута к нему вещь. Он изображает ее в профиль — так она наиболее типична, и, кроме того, функционально профиль выразительнее. Только постепенно ребенок доходит до осознания зрительной картины. Мальчик 7-ми лет, увидев корову, которую вели мимо нас, говорит мне: «Корова, как у нас на картинке,— один глаз большой, а другой чуть-чуть видно». Его удивил ракурс, зрительная картина, и, конечно, в этом помогла ему книжная иллюстрация. Без нее он, может быть, и не фиксировал бы зрительного момента. Надо сказать, что этот случай по возрасту несомненно не типичен, обычно мы с этим встречаемся позднее. Но не только предмет воспринимается ребенком функционально. Пространство, которое у взрослого воспринимается как среда, ребенком понимается как земля, по которой ходят. Она оформляется главным образом дорогами, путями и предметами, двигающимися и стоящими на ней. В этом смысле интересно на рисунках детей отношение к небу — это по большей части не фон, на котором и земля и все проецируется, а крыша, вернее, потолок пространства. Мы, взрослые, можем, конечно, свысока взглянуть на ребячье искусство, решить, что они просто не умеют рисовать, не знают всех наших премудростей, перспективы и прочего, просто не понимают пространства, не видят его. Но, делая это, то есть наступая на ребенка со своим взрослым опытом, мы должны быть крайне осторожными, рассматривать и наше и детское изображение с точки зрения реализма и отнестись к своему искусству самокритически. Про Курбё рассказывают, что он писал пейзаж и изображал что-то в поле, даже не зная, что это такое, но тем не менее зрительно верно передавал то, что видел. Такой случай типичен для искусства взрослых. Искусство взрослых часто отвлеченно от функциональности вещей, оно передает зрительную картину, передает пространство, но упускает вещи с их функцией. Конечно, у искусства взрослых есть свои реалистические преимущества. Методы его дают возможность, отвлекаясь от функциональности предметов, часто даже от конструктивности вещей, понимать их пространственные отношения. Конечно, ребенок растет и от предметного и функционального восприятия действительности постепенно переходит к зрительному восприятию, которое должно ему дать цельность пространства и отношение вещей друг к другу. Но тут же нужно отметить, что он теряет. Он теряет функциональность и прежде всего свободное обращение со временем — его изображение становится единовременным. Зрительное изображение у взрослых тоже имеет дело с временем, оно очень активно подходит к нему и часто колоссальное временное содержание суммирует в один момент. Можно ли этого ожидать от маленького человека? Он легко может быть подавлен механической стороной зрительного аппарата и перестать быть художником, тем более, что и сами взрослые часто подавляются зрением и становятся пассивными копиистами. Поэтому как раз во имя реалистического отношения к действительности нужно дать возможность ребятам изображать ее по-своему и только осторожно и постепенно, учитывая возраст, переходить на зрительное изображение, тем более, что такое функционально-предметное изображение соответствует сознанию малышей как строителей, путешественников, летчиков, бойцов и т. д. Обычно говорят, дети рисуют по представлению,— но это может ввести в заблуждение. Представление может быть очень отвлеченным у взрослого, здесь же мы имеем дело не с отвлеченностью, а с конкретным актерским и функционально осмысленным образом. Поэтому рисование у детей есть большая и серьезная их работа по пути восприятия и освоения пространственного мира. Как художественное изображение оно имеет часто очень большое достоинство, несмотря на техническую немощь, и всегда бывает чрезвычайно реалистическим. Но кроме отношения к действительности в ребячьем изображении мы можем наблюдать встречу ребенка с материалом, и рассматривание этого момента может внести еще черту в реалистический характер детского изображения. Если восприятие действительности предполагает игру в себя, то в изображении мы как бы встречаемся с игрой в материал, образное освоение материала. Мальчик 3-х лет начинает рисовать. Он черкает карандашом по бумаге, и у него выходят длинные, несколько изогнутые линии, они получаются как следы непосредственного жеста. Я спрашиваю его: «Что ты рисуешь?» Он со скучающим видом отвечает: «Нитки». И видно, что нитки ему ни к чему и его не радуют. Я даю ему краску и кисть, и он тем же жестом чертит уже толстые полосы и радостно говорит: «Змеи». Он же находит отбитую ручку фарфоровой чашки и говорит: «Гусь» — и играет в нее. Про Сурикова рассказывают, что он увидел ворону на снегу и задумал «Боярыню Морозову». Про него же говорят, что, увидев на берегу Волги сидящих на земле и ждущих парохода татар, он задумал «Княгиню Ольгу, ждущую тело Игоря». Дети в своей игре всегда берут какую-либо вещь: палку, цветок, желудь и другое, и эти вещи своими формами и качествами изображают людей и животных. Так же и в рисунке: пятно, определенный цвет, линия, круг, овал и другое — не подгоняются в своем буквальном оптическом соответствии с натурой, а их качества используются как метафора в изображении. Это обусловливается конкретным или реалистическим отношением ребенка к материалу, при помощи которого он изображает. Вначале какой-либо ритмический жест ребенка получает название, затем уже ребенок различными материалами изображает то, что он хочет, но всегда метафорично. Иногда в этой метафоре ребенок заходит очень далеко. Девочка, усвоив изображение человеческого лица, рисует с таким же лицом и лошадь. Когда я спрашиваю: «Что это за пятна под глазами?», она, не слушая, говорит: «Розовые щечки». Помню себя лет шести—восьми, я не был знаком с трактатом Леонардо да Винчи, но видел бесконечное количество историй на стенках шкафа из карельской березы, стоявшего у моей кровати. В детском изображении как бы сходятся два реализма: реализм материала и возможный для ребенка реализм идеи,— и на этом создается образ. Отсюда, например, яркость цвета в детском рисунке. Мальчик, неоднократно посещавший зоологический сад и видевший там слона, рисует его светло-голубым, и мне приходит в голову, что при взгляде на слона видишь громадность, но забываешь о тяжести, и это делает цвет, а легкость голубого передает это. Поэтому то, что обычно называется условным в детском изображении, есть, собственно, безусловное реалистическое отношение к материалу. Когда в недавнее время (да и теперь очень часто) человек хотел стать художником, что он делал? Рисовал с натуры карандашом или углем на бумаге и писал масляными красками, ничего другого он не делал, не делал рисунков для книги, для стены, для текстиля или керамики, не знакомился с металлом, с деревом и т. п. Все это считалось ниже достоинства истинного художника, и поэтому, когда ребенок обращается к искусству, ему дают обычно только бумагу, карандаш и краску. Это, несомненно, ошибка. Необходимо ребенку дать всевозможные материалы. Пускай он рисует и на бумаге, пускай он рисует и на стене, делает рисунки к занавеске в своей комнате, рисунок для своего платья, пусть он гравирует и печатает, пусть режет из дерева и лепит, пусть учится отливать из олова и формовать из гипса, пусть рядится, делает для себя костюмы из газеты и т. д. Мы часто можем наблюдать у подрастающих детей печальное явление, когда ребенок перестает изображать и говорит: «Я не умею». Это происходит от того, что вдруг на него обрушивается зрительный метод восприятия ч изображения и он начинает от изображения требовать не предметного соответствия, а соответствия оптического, и ребенок говорит: «Так не бывает». Происходит замена действительности оптикой. Как с этим бороться? Было бы чрезвычайно радостно, если бы удавалось детское творчество, не ломая и не отрывая, но и не консервируя его, а постепенно усложняя, переводить в творчество взрослых, не теряя богатств, завоеванных ребенком. И это, по-видимому, возможно. Здесь может помочь, с одной стороны, осторожный подход к зрительному восприятию, с другой стороны — возможно более широкое использование материалов. Всякий новый материал обогащает ребенка художественным опытом. Кончая на этом, хочется сказать, что детское искусство очень поучительно для взрослых как искусство в основе реалистическое. Лично я многому научился у ребят. Это целая большая и живая область своеобразного самостоятельного искусства. 1934 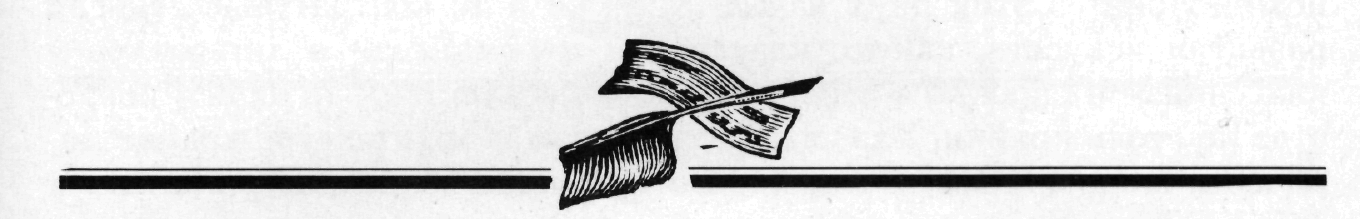 О войне Мне пришлось быть на фронте в последнюю империалистическую войну -, сын мой сейчас находится в действующей армии. Насколько тогда, сравнительно с сегодняшними днями, еще не ясны были цели войны, стремления воюющих государств и смысл твоего участия в сражении и насколько сейчас все это совершенно ясно и определенно. Тогда казалось, что дело идет о каких-то отдельных кусках земли, о том, под кем будет Варшава, об Эльзас-Лотарингии и т. п. Конечно, агрессивность немецкого империализма уже чувствовалась, но разве можно это все сравнить с теперешним положением? Те тенденции, которые и тогда, конечно, были в Германии, развились на почве германского безвременья в уродливые, сумасшедшие доктрины. И вот Германия, немецкий государственный аппарат, утративший человека как мерило и благо, человека как цель и вооруженный до зубов современной военной техникой, порабощает целый ряд стран, и наконец, сейчас грозит уничтожить Советский Союз, Россию. Западные славяне уже испытывают на себе всю жестокость рабства, и вопрос встает о существовании целого ряда народов, об уничтожении их самобытных культур и замене этих культур беспросветным гнетом нацизма. Конечно, и тогда, несмотря на то, что борьба шла между империалистами и цели войны были скрыты и в них не признавались, складывалось сознание, что тем не менее ты борешься за национальную культуру, за русскую культуру, и в мыслях, коротко выражая главное, я считал, что я борюсь за Пушкина. Пушкин был наивысшим выражением художественной культуры России, и в нем она для меня персонифицировалась. Сейчас, в борьбе, которая теперь идет, все совершенно ясно. Совершенно ясно и никаких не может быть сомнений, за кем правда и на голову кого падет та кровь, которая сейчас проливается. Империализм германский докатился до абсурдного предела, в нем нет ничего человеческого, это как бы обезумевшая машина, это полное бескультурье. Мы же сознаем себя имеющими что защищать и отстаивать, уничтожение чего обездолит не только нас, но и все человечество. Россия вложила в общечеловеческую культуру бесценный вклад и в том числе чудесный цветок своего самобытного, всегда ищущего правды, сурового и изящного, лирического и строгого изобразительного искусства. Такие имена, как Рублев, Суриков, Рябушкин, Серов, Федотов, Венецианов, Васильев, и др[угие] — все это этапы большого искусства. Мы стоим на грани Запада и Востока, и для нашего искусства характерны влияния и того, и другого. С одной стороны — барочный эпико-романтический Восток, с другой стороны — классицизм Запада. И уже в византийском искусстве и, может, еще более в русском происходит синтез этих двух начал; а также и те контрастные ступени развития искусств, как-то: классицизм и романтизм в литературе и классицизм и барокко в изобразительном искусстве,— в нашем искусстве не столь крайни. Так, наш классицизм в архитектуре крайне лиричен и наше барокко очень строго и просто. Тенденции романтизма и классицизма сочетаются в своеобразный синтез, свойственный вершинам нашего искусства. Таков Пушкин, соединяющий бескрайнюю свободу со строгостью строя и художественным порядком. Таков Гоголь. Таков Александр Иванов, у которого романтизм иллюстраций к Библии сочетается со строгостью классики. Для русского искусства характерно сочетание строгой архитектоничности с живописностью, часто нежной или бурной, так, даже у такого корифея живописи, как Врубель, мы видим стремление к кристаллу, к строю, к архитектуре; кстати, во в рубелевском искусстве мы уже чувствуем плечо другого славянского искусства — польского, нам родственного, свойственный ему романтизм. Для русского искусства в советский период благодаря нашей национальной политике открылась возможность восхищаться искусствами всех народов нашего государства, и внимательное и любовное отношение к искусству самых малых народов дало нам колоссальный материал, который несомненно окажет благотворное влияние на наше русское искусство, последнее никогда не отказывалось от влияний. Шекспир неотделим от нашей театральной и графической культуры, французская живопись дала многое и старшим и молодым поколениям художников, так же благотворно и взаимное влияние славянских искусств — русского, украинского, белорусского и других. Славянские искусства — это семья родственных, но своеобразных искусств. Это неисчерпаемое богатство орнамента, песен, эпоса, архитектуры, скульптуры, живописи. Многое из этого мы знаем и очень любим, со многим сроднились, как, напр[имер], с украинским орнаментом и песней или сербским эпосом, с польской и чешской литературой, но многое еще нам нужно узнать, многому поучиться. Но вот нацизм хочет уничтожить славян, уничтожить их культуру, их искусство, в ответ славяне протягивают друг другу руки и возникает братство славян; защищая славянскую культуру, мы защищаем культуру общечеловеческую, это так сейчас ясно, что кто не с нами, тот против культуры. И Советскому Союзу выпала на долю суровая честь встретить и остановить и уничтожить машинизированное варварство и освободить угнетенные народы. Мы уверены, в союзе с демократическими державами — Англией и Америкой, в союзе со славянскими народами и другими народами, угнетенными фашизмом, фашизм будет уничтожен, и немецкий народ, освобожденный, войдет в семью народов с вкладом своей национальной культуры. 1941 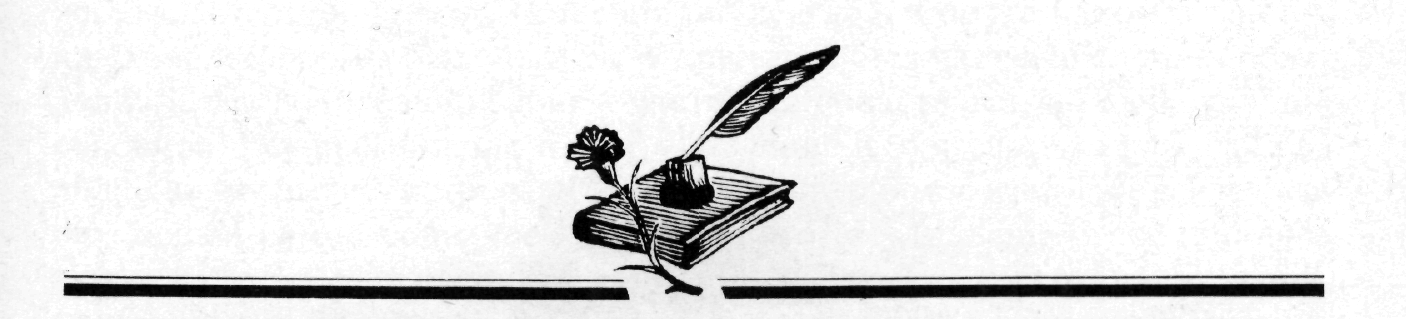 О Крымове На днях был на выставке Крымова. Выставка маленькая, всего в двух комнатах, и далеко не полная, многих вещей, которые помнишь, нет. Но тем не менее эта выставка мне кажется прямо событием. Замечательный художник, все почти, что выставлено, это шедевры — и то, что делалось раньше, что не лишено некоторой стилизации, и то, что делалось в недавнее время, что доведено до невероятной простоты и как бы без всяких претензий. Но главное, на этой выставке в произведениях Крымова видишь то, чего не хватает большинству наших современных художников и о чем они совершенно не думают и не беспокоятся,— это живописный рельеф, организация пространства, глубины. Прежде всего отношение к небу как к последнему плану в изображении пространства. У большинства современных художников небо спорит с землей, все время отвлекает наше внимание, и зритель не в состоянии сосредоточиться и не знает главного плана в изображении. У Крымова я вижу то же, что встречаешь у старых французов, напр[имер] у Гюбера Робера. Последний силуэты деревьев изображает относительно неба так, что иногда деревья [решаются] как положительный силуэт, а небо — отрицательный, а иногда наоборот, и тогда небо идет вперед, на зрителя, и подпирает сзади весь рельеф (и этим, между прочим, у Крымова выражается его свечение). И поэтому рельеф сжимается, и самые малые отношения действуют очень сильно. И другой момент, также очень важный для изображения пространства, это пропуск переднего плана и остановка на втором как на глав-ном, что необходимо, когда художник изображает пейзаж, как бы его окружающий. Этим, конечно, несколько упрощенно, замечено то, что составляет основу ритма, музыкальности его произведений, но это как бы постановка голоса у певца, а большинство наших художников совершенно об этом не думают. Поразительна у Крымова в некоторых его пейзажах живопись на самых малых отношениях, прямо невероятно, как таким малым контрастом передаются и первый план, и глубина большого пространства. Между прочим, интересно сравнить пейзажи Кукрыниксов с крымовскими. Они его любят и как бы учатся у него, но берут у него только его простоту, а его мудрость не берут, и их пейзажи по большей части — пересчет вещей, но, правда, они очень просты. Но Крымов прямо прост, как дитя, и мудр, как змий. 8 июня 1954 года 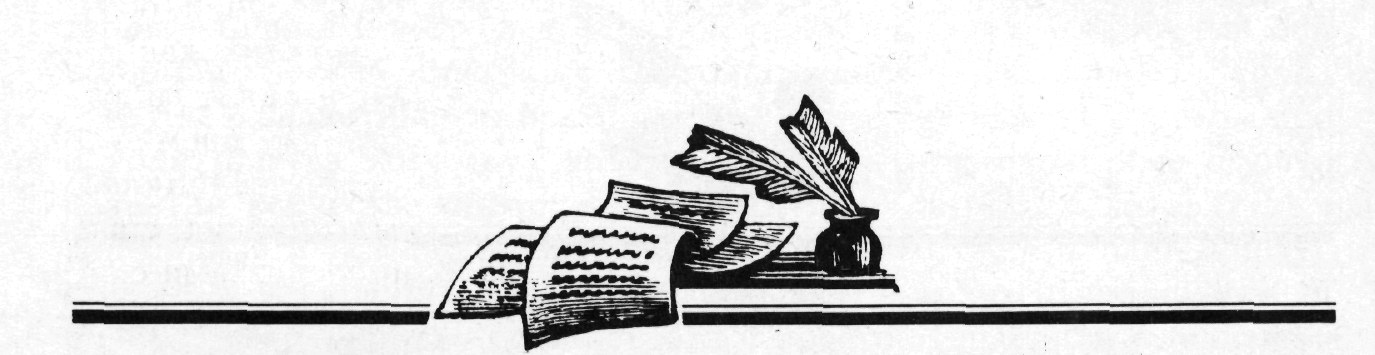 О тенденциозности искусства Давно как-то мне пришлось говорить с Ф[лоренским] о художнике Чюрленисе. Флоренский] отозвался о нем одобрительно, считая его во всяком случае не натуралистом. Я не любил Чюрлениса и думал, что это натурализм тоже, но внутренний, тогда как натурализм внешний — это оптический натурализм. Ф[лоренский] со мной согласился и изложил очень интересную и навсегда мне запомнившуюся схему художественного творчества, как бы путь творческого вдохновения. Вотон: художник, когда начинает творить, то подымается в эмпирей, в мир идей, и там напитывается лицезрением идей и затем спускается наз емлю и, исполненный идеями, видя земные вещи в их частном явлении, видит в них тот высокий прообраз, который он созерцал там. Видя стол, он вспоминает престол, видя Ивана Ивановича, он вспоминает Человека с большой буквы и т. д. А некоторые художники в творческом процессе тоже подымаются в эмпирей, но у них не хватает терпения, и они, поднимаясь, жаждут увидеть, открыть что-то, и им начинают являться и видеться всякие чудовища, и таков и Чюрленис в частности. Как-то недавно в компании, где были молодые художники, поднялся вопрос о тенденциозности искусства. Я подумал, что, положа руку на сердце, не могу сказать, что искусство не тенденциозно; и теперь, подумав, могу сказать, какая может быть, как мне кажется, тенденциозность. Ведь не получается так, что я ничего не знаю, ничего не вспоминаю, когда рисую что-либо с натуры. Вспоминаешь высокие образцы искусства, прекрасные образы, которые видел, то есть как бы подымаешься в эмпирей и созерцаешь идеи. Когда едешь в трамвае или метро, то рассматриваешь людей, иногда с определенной целью, иногда бесцельно, и часто это начинает утомлять. Как-то я решил смотреть всю дорогу глаза, рассматривать, как у тех, кто мне встречался, устроены глаза. Это оказалось очень интересным занятием. Получалось так, что я, конечно, сразу же вспомнил Очи с большой буквы, вспомнил «Давида» Микеланджело, вспомнил «Владимирскую» и другие случаи искусства, отчасти и жизни, где глаз устроен со всей роскошью и выразительностью частей, его строящих, со всей архитектурной строгостью. И вот каждые новые глаза прежде всего поражали тем, что не были похожи на эти «образцы» ни четкими веками, ни выразительным яблоком и т. д., но в то же время какими-то средствами, как будто и скудными и несовершенными, они выражали то, что ждешь от очей, они выражали и мысль, и чувства (конечно, не всегда), и почти каждый раз понимание их формы было как бы открытием: был частный случай, обладавший исключительно своими частными средствами, но выражавший основное. Все время жило в тебе удивление и чувство, что каждый разделаешь открытие, встречаешь нечто неповторимое и в то же время выражающее самое основное. И кроме того, с удивлением соединялось также чувство, часто чувство теплой жалости: как ты, голубчик, справился своими простыми, иногда даже примитивными средствами с та-кой трудной задачей? А иногда именно простые средства и оригинальный результат приводили в восхищение, именно своей простотой. Удивление и жалость или, может быть, участие — вот что чувствуешь, встречая новую форму, новое лицо, когда хочешь его рисовать. Вот с такой тенденцией я согласен. P.S. Встречаются, конечно, и очи, и восточные и русские. Но от глаз, между прочим, требуется, чтобы они, как и все черты лица, выявляли поверхность лица, а это делают часто не большие глаза (очи), а скромных размеров. 20 июля 1954 года   Какие вопросы следовало бы поднять на дискуссии о положении нашего искусства
Это напоминает стародавние времена, когда девицы в гимназии изучали анатомию человека только до пояса, а не ниже, и древние институтки думали, что от поцелуя можно забеременеть. Известно, что это не так. И только человек, мнущий глину в своих руках и чувствующий все ее свойства, может, как Голубкина, лепить тончайшие, едва уловимые оттенки выражения, создавать нежнейшие образы. И такие замечательные статуи из камня и дерева, как у Коненкова, предполагают большое знание материала, глубокое понимание его структуры и его свойств и тех, уже ритмических, возможностей, которые в них заключены. Конечно, бывают такие случаи, когда художник, подобно Эрьзе, в материале как бы плывет по течению, всецело подчиняется ему. Но такое неправильное отношение к роли материала в искусстве только требует, чтобы этот вопрос ставился и обсуждался. У нас же много случаев, когда материал не учитывается, мы, напр[имер], часто слышим высказывания о мозаике как о репродукционном средстве масляной картины. Если сравнивать наше искусство с музыкой, то роль материала там будут играть различные инструменты и выполнение у нас в том или другом материале будет так же менять выражение темы, как в музыке — различная инструментовка, перенос темы из оркестра на рояль и т. п. 3) Было несколько статей о композиции. Многие из них весь упор клали на образ, на тему и считали, что композиция сама появится, новая, нужная в данном случае композиция. Это в основном правильно, но при этом довольно пренебрежительно махали в сторону классического искусства и отказывались поднимать вопрос о теории композиции. При этом договаривались до того, что нет законов композиции, путая их с правилами. Правил, конечно, нет и не может быть, а законы, конечно, есть. Каким образом творение, основой которого является мысль, воплощенная в материале, может не обнаружить законов, по которым оно создается и живет? Раз есть цель и есть условия, то есть и законы. И открывая эти законы в классическом наследии прошлого, можно учиться, только нельзя превращать эти законы в правила. Законы живут, правила неподвижны. Конечно, вопрос о композиции — сложный и трудный вопрос, но кое-что наиболее основное, мне кажется, можно обсуждать и даже необходимо, нужно, так как это фундамент, на котором строится все произведение. Это вопрос об изобразительной плоскости. Большинство, как мне кажется, совершенно не осознает ее роли в изображении, а практически тут есть три пути, по которым идут художники. Одни, это часто встречается в декоративном искусстве, в угоду плоскости создают Плоское изображение; другие, это в станковой картине, считают необходимым, чтоб изображение объема и пространства уничтожило бы плоскость, чтобы мы получили бы полную иллюзию, забыв о плоскости, что, собственно, недостижимо. И третьи берут плоскость в основу своего метода, на основе плоскости развивают глубину, откуда получается плановость пространственного изображения, где возможно один план подчинить главному и таким образом прийти к цельному изображению пространства. Только в таком учете изобразительной плоскости, когда она входит в самый метод изображения, возможно достигнуть цельности и, следовательно, композиционного решения данной проблемы. Вот вопрос, который, мне думается, было бы полезно обсудить. У всех великих художников прошлого мы встречаем каждый раз своеобразный учет изобразительной плоскости, а в современном искусстве и у живописцев и графиков часто этот момент случайно в некоторых работах учтен, а чаще всего не учитывается совсем. Мне же думается, что это что-то вроде постановки голоса. 4) Часто говорят, что у нас борются с формализмом и натурализмом; первое так или иначе происходит, но с натурализмом, мне думается, борьбы никакой не ведется, так как прибавка к натуралистическому изображению темы, идеи в виде рассказа не изменит качества изображения. [...] Многое об этом можно было бы сказать, но мне хочется остановиться на одном моменте, обусловленном натуралистическим подходом к изображению реальности. Сейчас часто слышишь требования, чтобы были художники хорошие и разные, но откуда могут появиться разные художники. Натурализм предполагает, что есть какая-то живопись (панживопись), которая может изобразить реальную действительность полностью — со всеми ее качествами и свойствами: и объем, и пространство, и цвет, и свет, и воздух и т. д. и т. п. И если есть такая живопись, то, естественно, ей приписывается право единственно истинной, и тогда естественна нивелировка среди живописцев и понимание графики, стенной живописи и даже ковров как репродукции такой живописи. Откуда же тогда хорошее, разное, ведь нельзя этого ждать от чисто вкусового различия, дескать, о вкусах не спорят. В нивелировке проявляется политика натурализма. А может ли быть такая панживопись, как искусство? Такая цветная фотография возможна, но не художественное изображение. Вот пример. Я был на днях на просмотре работ художников, вернувшихся с целинных земель, было интересно их смотреть и было интересно их слушать. Поехали живописцы и невольно, подходя к тамошней жизни с методом живописи, с живописным этюдом, они выбрали статические сюжеты — портреты, беседы, отдых и т. п., а в их рассказах были движение, машины, вгрызающиеся в целину, султаны пыли и т. п.; они стремились изобразить прежде всего человека, взглянуть ему в лицо, и в этом они были правы, и у них уже намечались темы жанровых композиций. Но ведь и в их рассказах было много интересного и героического, что они не изобразили. И мне подумалось, что рисовальщик поступил бы иначе и подхватил бы те темы, которые они не взяли. Реальность и природы и человеческого общества чрезвычайно сложна, и если мы заинтересуемся какой-то стороной ее, то подчиним [ей]другие, и, кроме того, это зависит и от средств изображения, живопись может одно, другое графика, да и в самой живописи, как и в графике, столько родов, и чем разностороннее они со своими средствами подходят к реальности, тем лучше, и только таким образом мы можем овладеть действительностью в художественном изображении, открывая в ней все новые и новые стороны, доступные различным искусствам, и только таким образом могут быть разнообразные художники. 12 октября 1954 года 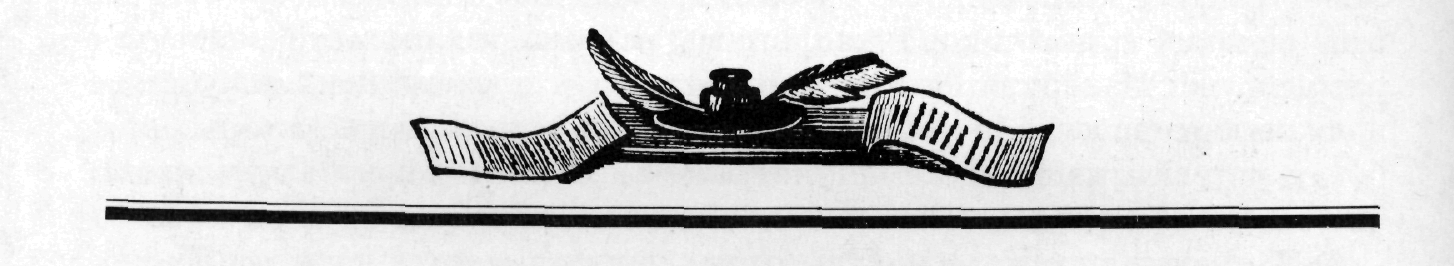 Мы сегодня чествуем Ивана Семеновича Ефимова... Мы сегодня чествуем Ивана Семеновича Ефимова, обычно называемого скульптором-анималистом. Так его можно определить при первом взгляде, и несомненно, у него много заслуг скульптурных, и изображения животных у него всегда выразительны, характерны и своеобразны. Вспоминаешь его деревянных: «Медведя», «Бизона», «Козла» и т. д., и бронзовых: «Индюка», «Страуса», «Дельфина» и многие другие его статуи и статуэтки в фаянсе и фарфоре, всегда выразительные, мастерские и характерные. Причем характеристика доводится всегда до пластического образа и вяжется с материалом и его обработкой. Таковы плавная форма «Дельфина», как бы из дутой бронзы, и пышность напыщенного «Индюка», где оперение передано листами бронзы, и дремучесть сидящего «Медведя», где дерево выражает его характер, его движение и его космы шерсти, и совсем по-другому звучит дерево в «Бизоне», «Козле» и т. д. Но хотя животные живостью и выразительностью своего характера и увлекают Ивана Семеновича, но его анимализм нарушается массой других тем, над которыми он тоже все время работает. Это целый ряд рельефов, между прочим, на «Слово о полку Игореве», рельефы на индустриальные темы в метро, конные статуи Салавата Юлаева, В.И.Чапаева, памятник Пастухову, группа бойцов, идущих в атаку (сцена из Отечественной войны) и, между прочим, замечательное по своей выразительности и, возможно, лучшее среди нашего искусства изображение Зои Космодемьянской. Но укладывается ли Иван Семенович в обычное понимание скульптора, знающего свой станок и свою глину? Ни в коем случае. У него очень много художественных ролей. Он и живописец (таковым он начинал свою художественную жизнь), и станковый график, и иллюстратор, и игрушечник, и театральный декоратор, и сам организатор театра, где он создает скульптурных актеров, и сам режиссер, и часто автор и актер. Да и в скульптуре он владеет не только статуарной скульптурой/но и мастерски [владеет] рельефом в различных его вариантах. Хорош его угольный рисунок, хороши его силуэты, сделанные тушью, иллюстрации русских сказок, росписи фаянса, вырезные остроумные бумажные животные, замечательный кукольный театр и т. д. и т. п. И вот, учитывая широту его пластического опыта, нужно его еще раз рассмотреть как скульптора. Его скульптура редко ограничивается объемным изображением предмета. Он, как никто, владеет в скульптуре и линией, и силуэтом, и различным использованием рельефа, то почти рисуночным, то en creux, то барельефом, то горельефом, то объемом. И главное то, что у него одно переходит в другое и в одном произведении соединяются различные пластические средства, в развитии темы дополняющие друг друга. Вот это качество в искусстве Ивана Семеновича мне кажется очень важным и очень для нас поучительным, и очень хотелось бы, чтобы не только мы, старшие, но и молодежь поняла бы эти качества его искусства и у него поучилась. Эти свойства его скульптуры дают ей возможность входить в другое пространство, в пейзаж, в какой-либо художественный ансамбль, сохраняя там свою самостоятельность и в то же время соединяясь с пейзажем, ансамблем и т. п. Пример — хотя бы его скульптурная графика, как она живет с пейзажем, или когда графически, силуэтно обработанный пьедестал несет объемную скульптуру. Эти качества для скульптуры, входящей в архитектуру, неоценимы. В обратном случае мы часто видим объемную фигуру, сиротливо пытающуюся войти в окружение архитектурное или парковое и все-таки ни с чем не соединяющуюся и едва защищаемую кубиком своего пьедестала. Вот этот диапазон средств Ивана Семеновича как скульптора роднит его с народным искусством и греческим античным и особенно русским. Иван Семенович и любит, и хорошо знает, и чувствует технику нашего русского народного искусства, и его искусство и в графике, и в цветовых решениях, и в росписях, и в самом решении объема носит глубоко национальные черты. Наше древнее русское искусство и искусство народное так богаты произведениями, живущими в быту, в архитектуре и в нашей природе — таковы и вещи Ивана Семеновича. Причем это никак не подражание - вещи Ив[ана] Семеновича] в традиции, но современные. Да здравствует Ив[ан] Семенович]. Желаю ему здоровья, бодрости и творческих успехов! 4 июня 1955 года 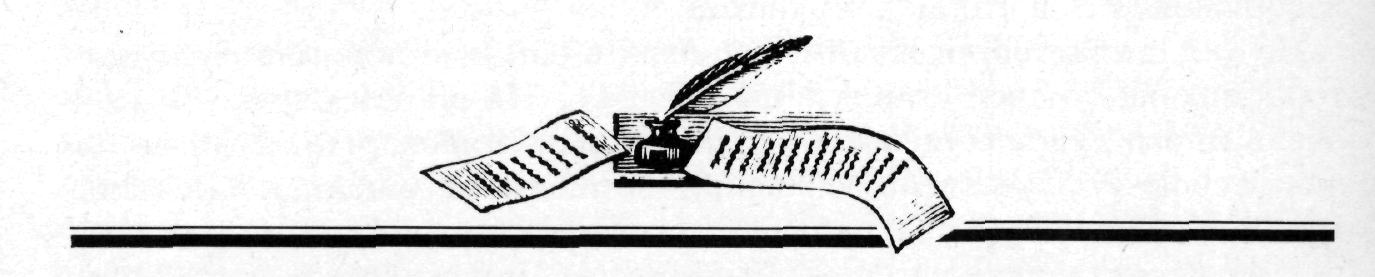 О дискуссии «Традиция и новаторство» 23 и 24 декабря МОСХ устраивал дискуссию «Традиция и новаторство» в ЦДРИ, был доклад Алпатова, неплохой доклад, но не очень определенный. После доклада мало кто хотел выступать, и председатель Богородский предложил мне, и я выступил, сказал то, что об этом думал, но, как всегда, мне сейчас кажется, что недостаточно, и в уме многое добавляется и хочется все это записать — и то, что говорил, и то, что теперь хотелось бы добавить. Если говорить о традиции, то важно представить себе, для чего нужна она нам. Можно представить, что живопись — это, главным образом, как бы производство картин, рассказывающих о каких-либо событиях, и тогда естественно обратиться к традициям рассказа и тем художникам прошлого, которые выступали как мастера рассказа. Я сам уважаю рассказ и считаю, что он иногда очень нужен, но этим ли только исчерпывается роль живописца. Казалось бы, что живопись не может ограничиваться такой задачей, тогда бы она превратилась в один из цехов искусства наряду с другими цехами. Здесь делают картины, ну а здесь делают иллюстрации, декорации и т. д. Но это не так. Мне думается, что живопись — это ведущее искусство среди зрительных и пространственных искусств. Недавно в МОСХе была выставка изогизовских плакатов. Плакаты были плохие, и всем они не нравились и все, [в том числе] и живописцы, поплевывали в их сторону. А можно сказать, что наша живопись как раз и виновата в таких плакатах. То, что в нашей живописи очень распространен натурализм, никак не оперирующий с цветом и с другими элементами живописи — это влияет на редакторов и авторов этих плакатов. Живопись — это первая и непосредственная встреча изобразительного искусства с природой, здесь открывается в искусстве непосредственная правда натуры, здесь цветом и формой художник пытается ее передать, и то, что он здесь получает, он как бы должен передать и графику, и декоратору, и прикладнику, и монументалисту — всему изоискусству. Живопись может воспитывать и образовывать вкус, живописное понимание, можно сказать, «глаз» смежных художников и даже вообще художников. В иные эпохи это было, и к этому стоит стремиться. А если так, то поиски традиции при такой установке не могут ограничиваться только рассказчиками, традиция должна быть широкой и разнообразной. Но в связи с этим мне хотелось бы поговорить об этюде именно как о первой непосредственной живописной встрече с природой. Во время дискуссии и в самом докладе поминался термин «художественность». Что такое художественность? Вот мне кажется, что в связи с вопросом об этюде удастся, быть может, сколько-то выяснить, что такое художественность. Если предлогом для этюда служит обнаженная натура, то это уже большая тема, а если пейзаж, то это тоже большое содержание, но если даже перед художником оказалась случайно на его столе забытая группа вещей, то и тут он может открыть таинственную вещь — «пространство» (причем это «пространство» никакими перспективами не покроется и не исчерпается). Если он начнет эту группу рисовать или писать и его задачей будет цельно видеть все это, то он увидит, как вещи будут разговаривать друг с другом, сложно относиться друг к другу, уступать друг другу, строить глубину, влиять друг на друга цветом, силуэтом и т. д., он как бы услышит тихий разговор, и его натюрморт, то есть мертвая натура, представится ему как штильлебен, то есть как тихая жизнь. И если он сумеет действительно цельно изобразить эту группу предметов, то художник откроет ритм, ритмическое отношение вещей друг к другу, причем вещи будут сами еще и меняться в зависимости от того, какую с какой мы будем соотносить. Словом, мы получим в результате что-то несказанное, что-то, о чем рассказать можно только очень приблизительно, но что искушенный зритель переживает и доподлинно видит, когда стоит перед вашим произведением. За примером недолго ходить. Хотя бы натюрморт Шардена, перед ним каждый раз останавливаешься в восхищении, а рассказать, чем он так уж хорош, едва ли до конца возможно. Вот это и есть художественность, и она не привнесена в натуру. Ее породила сама натура и стремление цельно ее воспринять во всей ее сложности. Я говорю об этюде, но я ни в коем случае не против картины. Мне представляется, что этюд — это как малый костер, из которого я беру уголь, чтобы в картине раздуть большой свет и при помощи его увидеть в моей теме то ритмическое начало, которое превратит тему в художественное произведение, проникнутое художественностью. При этом художественность не прикладывается к теме как средство ее передачи, а родится в самой теме, и такая художественность, которая только этой теме свойственна. Алпатов в своем докладе коснулся этики художника, художнической морали, и мне тоже хотелось бы немного сказать на эту тему. Вы знаете рассказ Сельмы Лагерлеф о том, как черт пришел исповедоваться монаху и стал рассказывать, что он живет тихо, женщин не знает, милостыню дает и т. д., словом, живет тихо, смирно и никаких грехов не имеет, и когда монах спросил его, какой смертный грех кажется ему труднее, он сказал, что все грехи одинаково трудны. Монах понял, что это черт, перекрестил его, и тот улетел в дыму, и остался только плохой запах. Вот если мы будем исповедовать некоего художника, нам иногда встречающегося, и спросим его, грешен ли он импрессионизмом, он скажет нам: «нет». А кубизмом? Он возмутится и отречется, а от экспрессионизма он тем более отречется. А любит ли он кого-нибудь из великих художников, напр[имер], Микеланджело, или Рембрандта, или Гойю, или Домье, или русскую иконопись? Он скажет: «нет, они ведь плохо рисовали, я никак не грешен в любви к ним» и т. д. и т. п. В таком художнике возможно признать черта, но никакой крест на него не подействует, он не исчезнет. Но это все иносказания, а на самом деле мы можем встретить такого художника, который скажет: «Я — реалист, у меня правильный рисунок, цвета столько, сколько надо, светотени тоже сколько надо, все на месте, идею я беру проверенную» и т. д. Такой художник, собственно, техник, но думает, что он художник, что он нашел пуп искусства и сел на него и сидит неподвижно, он в каком-то смысле эгоцентрист, он может даже сказать, что он и есть сам Соцреализм с большой буквы. Если мы его спросим о традиции, он скажет, что он признает таких художников в прошлом, которые похожи на него, а если спросить его о новаторстве, то он скажет, что когда у какого-нибудь художника ничего не получается, то тот художник называет это новаторством. Страшная, не правда ли, фигура? Но почти такую мы встречали. Но что такое реализм и реалист? Реализм — стремление в искусстве к правде, а реалист — это тот, кто открывает художественную правду. Но может кто-либо про себя сказать, что он походя открывает истину? — такому самообману может поддаться вот тот страшный человек, о котором мы сейчас говорили, потому что он неподвижен, потому что он вместо истины поставил себя. Но есть и другой художник, он грешен, может быть, и импрессионизмом, и страстной любовью к какому-нибудь Микеланджело или Рублеву, но он стремится в своем творчестве к правде, к красоте, к пониманию современности, но это не всегда ему удается, и он часто оглядывается на вчерашние свои работы, в чем-то их упрекает и надеется в завтрашних, в будущей своей работе добиться большего и большего. Такого человека мы, конечно, будем приветствовать и будем его ценить и условно назовем его реалистом, то есть стремящимся к реальному. Вот два нравственных типа нашего искусства. P.S. Недавно мы видели выставку товарищей наших, погибших на войне, их бесхитростные произведения, вот эти люди обладали действительно высокой нравственностью, и главным признаком было то, что они способны были забывать себя для родины и забывать себя ради искусства. Это было видно по большинству их произведений. 25 декабря 1955 года  Об Александре Андреевиче Иванове 29 июля 1956 года — полтораста лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова, и мы с большой любовью и благодарностью вспоминаем этого великого художника. Вспоминаем? — мне думается, мы помним его всегда. Такие гиганты нашего национального искусства, как Александр Иванов и Андрей Рублев, всегда у нас в памяти, это наше великое прошлое, через них русское искусство становится историческим — имеет прошлое, имеет настоящее и может иметь будущее. Он учился в Академии, которая в то время была уже в большой мере рутинной и мертвой, но влияние классического итальянского искусства, современной ему европейской живописи и, что особенно интересно, влияние древнего искусства и древней нашей живописи — сделали его замечательным живописцем, революционером в искусстве, указавшим русскому искусству новые пути. Поражает всегда, как он совершенно создает форму — в рисунке то или в живописи. Какая точность и в то же время ритмичность, и в ритме какая простота! Причем это не тот правильный в кавычках рисунок, который часто уводит художника от искусства, а всегда поэтическое и музыкальное изображение натуры. Даже простые его рисунки натурщиц, или этюды мальчиков, или пейзажи уже музыкальны. От академической условности он освобождается, и никто [иной], как Го-голь, превознес правдивость его искусства в повести «Портрет». И в то же время никогда его искусство, даже в штудировке, не спускалось к техническому изображению и натурализму. В этом смысле есть какие-то аналогии в его методе и методе Гоголя: и у того и у другого вся-кое изображение как бы подстилается мыслью о классической форме, у Иванова это наглядно видно, у Гоголя это трудней выявить, но это так, и мне думается, что есть аналогия в этом отношении большой картины Иванова и «Мертвых душ» Гоголя. Чувство прекрасного в искусстве и чувство правды жизни присущи этим великим людям. Но этого мало, Александр Иванов, являясь художником своего времени и художником-борцом за новое, обращается к древнему искусству и, в особенности, к русской древней живописи. Это мы видим в его замечательных эскизах на библейские и евангельские темы. Большое эпическое дарование художника здесь использует ритмы древней фрески, древней иконы, и это придает его эскизам монументальность необыкновенную. Причем это не стилизация, а опять художественная правда. Художник девятнадцатого и двадцатого веков, беря какую-либо художественную идею в древнем искусстве, должен проверить ее по натуре, должен увидеть ее в натуре, а это под силу только большому художнику . За многое можно быть благодарным Александру Андреевичу Иванову в его искусстве, но, между прочим, и за то, что он связал современное искусство с нашим древним искусством. Он как бы утвердил, что наше искусство, стремящееся к новому, родом из Древней Греции. Судьба Иванова была трагична. При тогдашних условиях государство сделало так, что ему можно было писать только станковую картину, хотя бы такую громадную, а думается, что если бы он имел стены общественных зданий, то художественные мысли его замечательных эскизов воплотились бы в многообразные композиции, равные рафаэлевским и микеланджеловским, но русские и несущие новое слово. 22 июля 1956 года 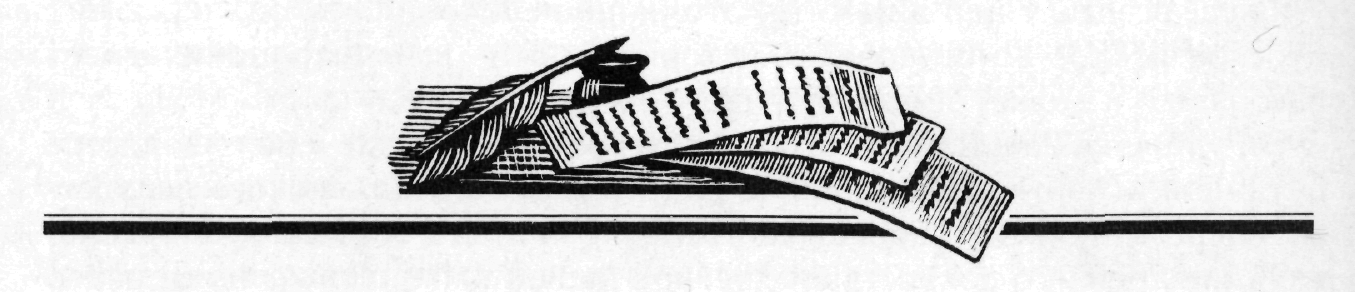 К съезду художников (Против пассивного копирования) Мы все знаем эпизод в нашей литературе, который связан с утверждением, что в нашей действительности не может быть конфликтов. Бес-конфликтность всячески, якобы мудро, обосновывалась. Но, в сущности, кроме ложной мудрости в этом случае можно видеть упрощенчество и даже просто лень, желание уйти от работы над сложной простотой, над цельностью, объединяющей часто противоречивое. Желание избежать преодоления конфликта — это своеобразная творческая лень. И в нашем изобразительном искусстве мы встречаемся с чем-то подобным. Гениальный художник, хотя бы Рембрандт, по Пушкину, «художник быстроокий», схватывает сразу, непосредственно всю сложность видимого и, держа все во внимании, объединяет все и доводит до цельности. А от нас, простых смертных, требуется большая работа над собой и колоссальное напряжение. И часто мы наблюдаем, что художник упрощает задачу: он бросает стремление к цельности, к сложной простоте, и начинает копировать натуру, идя от детали к детали, пришивая одну к другой в рамках оптической проекции; он, собственно, ленится, он оставил напряженную над собой работу, а это всегда нас стережет, мы всегда можем скатиться к подобному ползанию по натуре. Но фотография поддерживает таких художников, ведь она передает как будто очень точно реальность. Подобный упрощенный способ изображения иногда, и довольно часто, пытаются нам преподнести как реализм и даже как условие соцреализма, так как он будто бы объективен, не искажает предметы, все как в природе, все как на фотографии. Это не что иное, как своеобразная бесконфликтность. Здесь налицо выключение сложности нашего восприятия и богатства наших зрительных возможностей. Ведь мы воспринимаем не сразу, для восприятия нам необходимо движение. Мы смотрим вправо, влево, мы останавливаемся на первом плане, переходим ко второму, к третьему, выделяем нашим вниманием предмет, видим, как он поглощается пространством. А цвет? Он и там и тут, он не всюду лежит на предмете, он отделяется от него, он в воздухе. А небо? Оно и далеко, и близко. Как всю эту сложность изобразить? Можно сказать, что природа в нашем восприятии полна в некотором смысле конфликтов: конфликт плоскости и пространства, которое на ней изображается; конфликт планов — какой же главный? Конфликт предмета и пространства, конфликт цвета и объема и т. д. И художник — тот, который видит все это и, согласно с эпохой и своим мировоззрением, решает эти конфликты и приводит их к цельности. Вот искусство, и на этой основе можно поднимать большую тему. А нам часто, ради ложного благополучия, ради упрощения, преподносят статику, копирование в качестве искусства, что приводит в лучшем случае к рассказу в картине. Якобы в природе ничто не меняется; и в природе, конечно, меняется, но и в нашем восприятии все движется, все взаимоотносится, все спорит, и поэтому-то нужно искусство, которое цельностью объединяет всю сложность. |
