Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
И разве такое искусство не нужно обществу или нужно ему во вторую очередь? И разве искусство с такими возможностями не является необходимейшим искусством для социалистического общества? Но как же осуществляются эти задачи в монументальном искусстве? Возьмем наши памятники. Памятник вместе с тем, что характеризует героя, также образует некое силовое поле вокруг себя. Он не только скульптура, которую мы рассматриваем вблизи, стоя перед ней, но произведение, включающее через свое ритмическое влияние иногда очень большое пространство. Взять хотя бы «Медного всадника» в Ленинграде. Ленинград своим горизонтальным строем, детально выраженным и рекой, и набережными, и архитектурой с ее редкими вертикалями, дает возможность памятнику Петра скачущим движением, подобно волне, войти в пейзаж, организовать то, что можно назвать силовым полем. Последнее есть сколько-то у памятника Пушкина, но, по-моему, ни в памятнике Гоголя, ни Чайковского, ни Горького этого нет. Они не создают вокруг себя специфического пространства, их ритм не действует вне их, вокруг них — на улице, на площади. И на это мало обращается внимания и скульпторами, и архитекторами города, и обществом, а ведь только это качество действительно делает памятник монументальным произведением. Сколько-то есть силовое поле у «Рабочего и колхозницы» Мухиной, но они ведь задумывались для другого места. Сколько есть на свете помещений, монументально оформленных, о которых вспоминаешь как о высоких произведениях, в которые ты входил и чувствовал определенный содержательный строй, ритмически образующий все пространство и проникающий тебя. Это Сикстинская капелла, это готический собор, тот или другой, это барочный собор, это ленинградские дворцы, это наши древние церкви и соборы — московские, владимирские, новгородские, киевские. Какое совсем особое возвышенное чувство, когда ты входишь в Кремль и приходишь на площадь соборов и входишь в Успенский или Благовещенский [соборы]. Какую могучую роль играет здесь живопись, как замечательно, когда через арку алтаря ангел обращается к Марии. Все стены одеты живописными фигурами, все пространство пронизано их движением. Но ведь это все прошлое искусство, мы им наслаждаемся, у него учимся, но ведь это не наши ритмы, не современные, не те, которые должны ответить человеку с его сегодняшним пониманием общества, с его современной мыслью о человечестве, о мире. И вот, пожалуй, нужно сказать, что у нас нет архитектурных ансамблей, равных нашим соборам, Сикстине и т. д. Можно указать на некоторые метро, а еще на что? Я не знаю. И это мало. Университет интересен внешностью, а не внутренним помещением, не интерьером. А это должно быть. И для этого мы должны работать и работать; и искусство монументальное должно быть по-настоящему признано, и к нему должно быть чуткое и внимательное отношение, недаром Ленин указывал на него. Монументальное искусство не зависит от одного художника, это сугубо социальный заказ, оно в большой степени зависит от архитектора, от строителя, от заказчика. А как обстоит дело со зрителем, с потребителем, с народом? Он заранее не высказывается, и это жаль. Художник и архитектор хотят осуществить свой замысел, а хозяйственник-строитель, как правило, не хочет этого, ему легче без этого; а заказчик? — иногда он активен и авторитетен, а иногда его нет или почти нет; и тогда до изобразительного монументального искусства не доходят. И это жаль, так как это не прихоть изобразителей, а серьезное дело, тоже строящее наше социалистическое общество. Март 1958 года  Как я впервые писал фреску (Слово на обсуждении монументальной выставки) Разрешите мне сказать несколько слов, как я впервые писал фреску. Я ничего еще не знал как следует. Мне показывал технику Николай Михайлович Чернышев, за что я ему очень благодарен. Но писал я акварельным способом, потому что боялся известковых белил, а известняковые белила были тогда еще неизвестны — они лессировочного типа и не так высветляются. Я расскажу о двух событиях, которые произошли во время работы. Первое — когда я написал мать, принесшую ребенка в детсад. Мне кажется, она была в полторы натуры. Конечно, я создал ее. Но она мне казалась живой, и мне хотелось с ней познакомиться, узнать ее. Отношение к ней было не как к изображению, а как к существующей самой по себе. Я не хочу сказать, что она была замечательно написана, она была так себе написана; но если бы она была натуралистически изображена, то к ней отношение было бы как к изображению. Плоское изображение [тоже] не возбудило бы во мне такого живого чувства. Так что, мне кажется, изображение должно быть плоскостное — не иллюзорное и не плоское, а пространственное. Это первое; второе событие, которое произошло для меня, было следующее. Когда я написал торцовую стену-портал, я перешел на соседнюю стену, слева под прямым углом к порталу. И когда я начал писать на этой стене, то целый день меня наполняло особое чувство — что я чего-то достиг, что-то открыл для себя, что раньше мне не встречалось. Когда художник пишет на холсте, он пишет на плоскости и углубляет ее. А я тут писал на перегнутой плоскости, и я не имел уже точки зрения, я из только зрительного человека превратился в человека, находящегося в архитектуре. Передо мной было изображение двух измерений и глубины третьего измерения и угол, который был изображением времени. Я был уже движущийся человек, изображение меня обнимало. Может быть, я говорю банальные вещи, что все помещение должно быть цельным и обнимать человека, но тогда я это испытал особенно сильно. Я целый день ходил, как будто случилось что-то радостное и в то же время не совсем понятное. Простите за мое выступление, но оно, во всяком случае, кратко. Мне кажется, что эти два момента очень существенны в монументальной работе. Только в монументальном изображении можно оживлять персонажи, которые изображаешь. Еще мне хотелось бы вспомнить Льва Александровича Бруни, замечательного мастера, обладавшего даром импровизации. Многие его вещи погибли, но одна вещь цела и замечательна своей техникой. Это плафон в Театре Красной Армии. Он написан на акустической штукатурке, но ни одна лампа на него не светит, и он получает рефлекс от красных кресел, что его тяжелит. А так бы хорошо и в то же время просто направить на него несколько ламп, тогда заговорила бы фактура акустической штукатурки и плафон стал бы воздушным как никакой другой. Желаю товарищам хорошей работы. Желаю совместно с архитекторами осуществить действительный синтез, но живописцам, конечно, обязательно вносить свое, изобразительное. [Нач. февраля] 1962 года  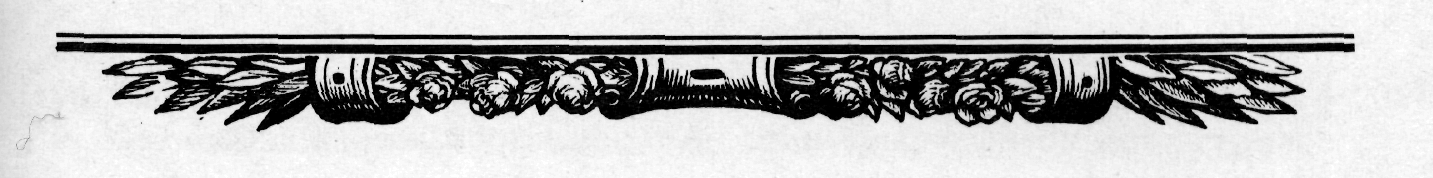 Какой будет монументальная живопись? Новый характер архитектуры определяет и своеобразие современной монументальной живописи. Архитектура классицизма создавала из пилястр и карнизов как бы раму, в которую можно было вставить живопись. Современная архитектура — легкая, плоскостная, макетная. Живопись на стенах такой архитектуры не может быть иллюзорной, не должна прорывать плоскость стены. Но она не должна быть и плоской, аппликационной. Плоскостная, но не плоская. В чем разница этих понятий? Плоскостная живопись сохраняет двухмерность стены; но за счет глубины, насыщенности, вибрации цвета, за счет композиции она делает стену зрительно более емкой. Свойства настенной живописи во многом определяют зрительное впечатление от архитектуры. Иногда бывает так: архитектор строит здание и потом отводит место для живописи. Живописец в таком случае работает без учета потребностей архитектуры. Нужно работать вместе. Только при общих замыслах и в общей работе может родиться настоящий синтез искусств. Существуют некоторые закономерности, с которыми должны считаться в своей работе художники-монументалисты. Большую стену нужно сделать обозримой. Изображение на такой стене должно легко восприниматься, читаться зрителями. Это изображение нужно членить, помнить о цезурах, паузах. В интерьере человек не должен стоять перед расписанной стеной так, как он стоит в музее перед картиной. Лучше, если вместо плоскости стены зритель воспримет объем и пространство интерьера, почувствует себя окруженным изображением. Для этого настенная роспись должна свободно, естественно перетекать с одной стены на другую, развиваясь в пространстве и тем создавая ощущение развития во времени. Композиция росписи интерьера должна органически включать в себя дверные и оконные проемы, арки, ниши. Только живая связь с архитектурной структурой помещения делает монументальную живопись необходимой. Монументалист многому может учиться у старой живописи, прежде всего у древнерусской. Мастера, расписывавшие соборы Древней Руси, прекрасно чувствовали разницу между плоским и плоскостным изображениями. Их цвет имеет глубину; композиция, перспектива организуют стену. Умели они включить в свои композиции как выразительный элемент и архитектуру. Например, в Благовещенском соборе в Кремле в сцене «Благовещение» фигуры Марии и ангела разделены аркой — эта арка воспринимается как живое пространство. Древнерусское искусство оставило нам непревзойденные образцы органического слияния живописи с архитектурой — того, что сейчас называется синтезом искусств. Об этом следует помнить. Великим монументалистом был также Джотто — его наследие может быть творчески использовано. Конечно, стиль современного искусства совсем иной, но ведь речь идет не о заимствовании, а о творческом использовании наследия, о школе. Февраль 1962 года 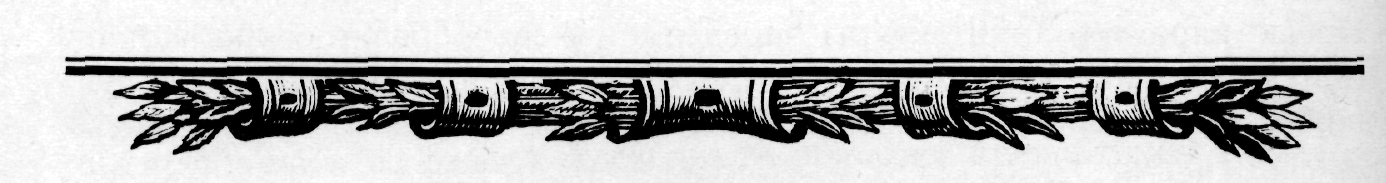 Мне кажется, синтез нужен Мне кажется, синтез нужен. Я ведь присутствовал при рассвете советского искусства. Мы делали архитектурные конструктивистские проекты без всякого изобразительного искусства ... и в конце концов в это помещение входил комендант и вешал портрет, совсем не связанный с архитектурным пространством. Конструктивизм был нарочито гол и не достигал цели. Так что, мне кажется, что теперь должен быть синтез, тем более что живопись и скульптура сейчас достаточно сильны для этого. Мы писали в, случайных помещениях, и эти помещения не давали возможности осуществлять синтез. Чтобы был синтез, надо, чтобы работали группы. Конечно, архитектор должен руководить. Но вот когда мы работали с Жолтовским, для живописи отводилось место, она там существовала и смотрелась совершенно отдельно. Теперь я наблюдаю, что архитекторы хотят видеть плоскую монументальную роспись, которая сохраняла бы стену, почти не придавая ей новых качеств. Но мне кажется, что чтобы был синтез, живопись должна полноправно участвовать в архитектуре, она должна входить в нее существенно и самостоятельно, и тогда синтез будет многоголосый. Посмотрите, как участвовала в архитектуре древнерусская живопись: в Благовещенском соборе ангел — с одной стороны арки, а Мария — с другой, и он ей благовестит через арку, через воздушное пространство; он вроде бы нарушает арку и в то же время подчеркивает ее существование. Живопись должна по существу входить в архитектуру; не просто класть пятна на стену, а противопоставлять одну стену другой, делать одну перпендикулярной другой, глубокой или плоской, смотря по тому, как это задумано. Самыми правильными мне кажутся древние традиции монументального искусства; и там мы часто встречались с тем, что, например, сильная балка или сильная колонна раскрашена очень легко, и этот контраст живет, и играет не в унисон, а как оркестр. И этим оркестром должен кто-то руководить. Не стоит идти в унисон. Мне кажется, что всякое изображение несет в себе образ и становится вещью. Это ясно в скульптуре: памятник — вещь, а Пушкин — образ. В живописи это не так ясно, но и картину стараются сделать вещью (например, рамой). Настенную живопись делают вещью цвет, формы линий и пятен. Так вот, мне кажется, что синтез создается как раз вещной (а не образно-конкретной) стороной произведений искусства. Картина как внешне художественный предмет существует в архитектуре независимо от образа, а образ вы получаете, уже когда входите внутрь картины. Абстрактное искусство, мне кажется, делится на два течения: архитектурно-геометрическое и другое, выражающее чувства художника. Первое — это продолжение средствами живописи архитектурных моментов на стене. Такое искусство может существовать в архитектуре уже потому, что эти художники заняты пространством и проблемой углубления стены. Другого же абстрактного искусства, которое хочет оживить чувства пятнами и другими живописными средствами, я не понимаю. Что касается повествовательности, то почему бы нет? Рассказ, если он не подан живописно, а только литературно,— плох, а так — почему бы нет? Все художники, которые говорят: нужно забыть, что я работаю на плоскости,— еретики. Плоскость никогда не пропадает. Помню, я ехал по Италии на велосипеде, и вдруг плакат: человек в вас стреляет. Дуло направлено прямо на вас, вся плоскость летела к черту. Иллюзорное изображение не в глубину разрушает стену, а вообще ее разрушает. Станцы Рафаэля отнюдь не иллюзорные, а плоскостные. Плоскость стены надо сохранять. Сохранять ради цельности восприятия. А так зритель уйдет, уйдет в глубину, а куда он придет? А куда он должен прийти? Он должен остаться с этой стеной. В этом смысле задний план должен выдвинуться вперед. Ведь для достижения цельности восприятия зрителя надо вести, а если иллюзорность — непонятно, куда идти: из глубины вперед или отсюда туда. Живопись призвана не продырявливать Стену булавкой или спицей, а создавать планы углублением двух измерений в направлении третьего. Не успокаиваться на первом плане или на втором, а углубиться в седьмой и вывести его вперед. В древнерусском искусстве были линейные (цветовой не было) прямая и обратная перспективы; это было желание сделать глубину и сделать ее плоскостной. Некоторые считают, что была прямая перспектива, а сейчас появилась обратная — это неверно. Прямая и обратная перспективы — не как система, а как тенденция — всегда были и останутся: обратная не замена, а корректура прямой перспективы. Всегда были и останутся угол зрения (потому что мы часто изображаем пространство, которое больше, чем поле нашего зрения), заслонение фигурами фигур, при котором дальние фигуры окажутся ближе и будут идти вам в глаза,— иначе не будет цельности восприятия. Ведь каждый цвет имеет плоскость и массу. Когда он тяжелей массы, он лезет вперед, когда он легкий, он исчезает. Если цвет плоский, он сохраняет плоскость пятна. Каждый цвет зависит от формы пятна и от того, на каком цвете он лежит. Если половина книжной обложки черная, половина красная, то черное говорит: «я — предмет» и лезет вперед, а красное становится пространством. Когда красное говорит: «я — предмет» и лезет вперед, то черное становится пространством. И так без конца. Цвет прежде всего пластичен, он имеет массу. Если покрасить стену одним цветом, она уходит в воздух (например, при не которых оттенках голубого), если другим (кое-какие оттенки охры), она становится плоскостью. Так что, если ты непроизвольно положил цвета, они начинают плясать, начинается беспорядок. И конца этому не будет. Поэтому я думаю, что не следует стремиться ни к плоскому, ни к иллюзорному изображению прежде всего потому, что ни того, ни другого не может быть, и то, и другое ложно. Изображение должно быть плоскостное, а какой глубины — большей или меньшей — это зависит от того, как задумает автор. То же самое рельеф: должна ощущаться глубина, на которую вы углубляете, он должен быть плоскостным изображением. Скульптура вообще должна подчеркивать плоскость, которая с ней сочетается. По-моему, бесцветная архитектура — это лишение человека чего-то очень важного. Архитектура должна быть цветная. И придерживаться бесцветной архитектуры (особенно не расцвечивать здания снаружи) — это, по-моему, большое лишение. Конечно, довести синтез до того, что каждая вещь, каждая роспись и скульптура будут входить в архитектуру,— это очень важно, но это очень трудно. А важно работать и работать. Декабрь 1962 года  ЧАСТЬ ЧЕTВЕРТАЯ Об оформлении спектакля «Двенадцатая ночь». МХТ II Эпоха трех поколений Беседа с молодыми художниками театра Моя работа над оформлением спектакля Об оформлении спектакля  «Двенадцатая ночь». МХТ II Я первый раз работаю на театре, и поэтому первой моей задачей было ознакомиться со сценой и ее выразительными средствами. В процессе ознакомления возник вопрос о реализме в театре. Одно из существенных отличий реалистического стиля от натуралистического, по-моему, состоит в органическом отношении к материалу как средству изображения. Отсюда всякая изображаемая вещь должна иметь свою сценическую конкретность как вещь сцены. Все это, конечно, не открытие. Это давно уже выяснено, но, работая впервые на театре, я вынужден заново открывать для себя театральные законы. Я строю оформление спектакля «Двенадцатая ночь» (эта пьеса требует виртуозного использования театральных средств) частично на графическом, рисованном и подкрашенном заднике и ширмах, частично на занавесах, которые изображают дома, сады и т. п., причем хотелось бы, чтобы в игре поддерживалось двоякое существование этих вещей: изобразительно — дом, сценически — как занавес, изобразительно — как дерево, сценически — как ширма и т. п. Вслед за «Двенадцатой ночью» мне бы хотелось попытать счастья над пьесой, трактующей современную жизнь и современную тему. В связи с проблемой театральной предметности изображаемого, вещей на сцене, я заинтересован в архитектурной и особенно в скульптурной декорации. Скульптура — четкая и лаконичная — может, по-видимому, выразительно оформить ту пустоту, в которой действует актер, причем скульптурные формы, сохраняя свою специфичность, ни в коем случае не должны сливаться с плоскостным изображением, а должны подчеркивать специфичность живописи и графики. Беспокоит меня вопрос о сценической раме и рамповой сцене. Она слишком зрительна и поэтому статична и не может, как мне кажется, дать действительно реальное изображение. Я, конечно, как художник, не могу не преувеличивать значения пространственного момента в театре, но мне кажется, что артист, играющий пространственно, повышает переживание до события. В противном случае — это только внутреннее переживание. Мечтаешь о круглой сцене, где актер — первое лицо, где он измеряет и образует пространство и обретает подлинную пластичность. Но пока, в условиях сценической коробки, я поставил себе целью возможно более рельефно вызвать масштабы актера, стремиться к тому, чтобы всякое его движение и всякий его жест звучали монументально. Работа над оформлением «Двенадцатой ночи» сейчас находится в таком порядке, когда из макета вещи переходят на сцену и получают настоящие размеры. Происходит проверка моих предположений, для меня чрезвычайно ценная. Театру я очень благодарен за чуткое отношение и советы. Август 1933 года Эпоха трех поколений  Очень трудно высказываться во время работы. Замыслов много, а как они дойдут, доработаются до нужного выражения — это еще вопрос. Пьеса меня очень интересует: она несомненно искренна. Изображения в ней людей очень живые и ни в коем случае не схематичные и не безучастно-холодные, а с определенной социальной, может быть, и бессознательной злобой и негодованием. Для меня как оформителя спектакля также интересно, что в пьесе захватывается целая эпоха от 1872 года до 1933 года. Это почти история моды, и в то же время это начало и развитие «стиля модерн», который является явным выражением разложения буржуазии. С этим стилем приходится сталкиваться почти всякому современному художнику, и если художник его не преодолевает, то попадает совершенно незаметно в болото равномерно тягучей, однообразно пульсирующей чувственной формы, вернее, бесформенности «стиля мо-дерн». Это, можно сказать, враг, и враг живой, рассеянный во всех углах. Затем изменение мод, костюмов. Через сравнение на таком большом отрезке времени они тоже могут показать свою страшную сторону. У Бальзака упоминается актер-комик, который на вопрос, где он заказывает такие смешные шляпы, отвечает: «я их не заказываю, а сохраняю». Сравнение форм костюма разных десятилетий выясняет основной принцип в костюме — принцип «остранения». Надо подать человеческую фигуру так, чтобы она во что бы то ни стало сделалась новой, острой, чувственно-раздражающей. Человек как бы превращается в вещь, поражающую своей сделанностью и элементарной чувственностью. По ходу пьесы все происходит в комнатах, но я попытался все эти комнаты взять в окружении Парижа, который тоже меняется по десятилетиям. В изображении Парижа и вообще в декорациях я пытаюсь продолжить тот же принцип, как и в «Двенадцатой ночи»,— добиваясь изображения образа через фактуру материала, графический рисунок, цвет и т. п. В разрешении цвета передо мной были большие трудности. Нужно было выразить пошлость мещанства, но выразить ярко и не потонуть в нем. Это тем более трудно, ибо перед нами образец реалистического изображения. 1935 Беседа с молодыми художниками  Я не совсем знаю ваш порядок, что я должен делать. Я вообще считаю себя очень молодым театральным художником, потому что я делаю только пятый спектакль. Сделал я «Двенадцатую ночь», «Мольбу о жизни» — это современная французская пьеса, затем «Пушкинский спектакль», «Собаку на сене» и сейчас делаю «Виндзорских кумушек» в Ленинграде в театре Музыкальной комедии. Раньше я совершенно не представлял себе, как бы я делал на сцене декорации. Мне вообще казалось, что лучше всего — без декораций. Первый раз я ставил «Двенадцатую ночь». В театре меня очень хорошо встретили и очень мне помогали, так как я все-таки сцены совсем не знал, театральных цехов совершенно не знал. В то время во Втором МХТе художественным руководителем по оформлению работал Хачатуров, и он мне много помог в этом смысле. Когда я увидел сцену пустую и двигающихся по ней рабочих, у меня было первое впечатление такое, что она страшно просторная, чего я на спектаклях не видел. Мне захотелось и вообще я считал нужным эту просторность сцены сохранить насколько возможно. Это — первый момент. Второй момент такой, что сцена была очень конкретной по пространству, то есть от рампы до задника, или задней стенки, было определенное расстояние, оно совершенно четко соизмерялось с человеком, который тут двигался, человек сразу входил в эту сцену. И вот мне хотелось, чтобы это тоже сохранилось; то есть если я даже буду изображать очень далекий пейзаж и т. д., то все-таки чтобы не было непосредственного впечатления от сцены, что она вообще бесконечно глубока или что она до какого-то места конкретна, а после какого-то —не конкретна. Хотелось и этот момент сохранить. Затем, в первой постановке меня очень поразил и связывал, и в то же время из него я всецело исходил,— круг на сцене. На сцене был круг, и вот смена картин, а картин было много, как вообще в шекспировских и других старых пьесах,— все это обязывало к тому, чтобы круг вертелся. Кроме того, у меня вообще есть немножко мечта о том, что когда-то могут быть постановки на круглой сцене, потому что сцена с рампой — она дает какие-то возможности, а каких-то не дает, а круглая сцена может дать и другие возможности для действия и в то же время для декораций. Мне казалось, что этот двигающийся круг на сцене в какой-то мере — конечно, только в какой-то мере — имеет те же свойства, как и круглая сцена. Поэтому мне тогда хотелось и теперь большей частью я бы так разрешал, чтобы рампа и вообще весь пролет сцены не являлись рамкой для отрезка, каких-то деталей, а чтобы там, на сцене, мы имели какие-то цельные, пожалуй, даже от кулис обособленные конструкции, которые бы скульптурно рассказывали об этом театральном пространстве. Тогда в театре мне возражали против этого: «Куда я иду?» — «Тут идешь за кулисы». «Что же это за кулисы? — Это не дверь, а ничто». Актеры возражали против этого. Я помню, как раз Готовцев возражал: «Я ухожу куда? — Куда-нибудь определенно, в дверь; а тут — за кулисы». Это казалось несколько неудобным, но по действию он сходил с какого-то пьедестала и уходил в город или еще куда-нибудь. Это можно как-то мотивировать. Что еще можно по формальной линии сказать? Мне все время хотелось, да я так и делал, изображать замок, изображать деревья и пр. Причем я сразу натолкнулся на то, что каждая вещь на сцене — она, во-первых, звучит каким-то материалом, звучит своей формой и в то же время может быть сейчас же разоблачена: дерево может быть разоблачено как не дерево. Вы представляете: мы имеем часто на сцене такие вещи, как, предположим, бревенчатую избу, по которой все время хочется постучать,— а это гнутая фанера, картон, и вы обнаруживаете, что это, в сущности, другой материал — это не бревно, а фанера и т. д. Это не значит, что нельзя из фанеры изображать бревно, но только мне кажется, что нужно совершенно явно и показать, что это фанера и ее качества как материальной вещи, а в то же время она может очень характерно изобразить, предположим, бревно. Так и тут, изображая деревья, мне очень не хотелось вырезать их и клеить, предположим, на сетку, потому что я не представлял себе, что в данной вещи нужно решать живопись иллюзорно. Вообще к живописно-иллюзорному решению меня не очень тянет. Так же, как мне не хотелось делать ветки из проволоки, из листьев вырезных, потому что мне казалось, что это сразу обнаружит материал, напомнит о пыли, словом, материально это давало бы какой-то мертвый материал, я решил тогда просто, что я дам панно, по форме очень ограниченные, сжатые, на которых и буду рисовать деревья и куски неба, которые являются фоном. Причем, мне казалось, некоторые решения (как, например, деревьев с совершенно натуралистической длиной стволов, с корой), они в какой-то мере правильны, но неправильны по отношению к актеру, то есть актер подходит и это дерево спорит с актером. Актер — не обычный человек, как мне кажется, поэтому его нужно всячески поддерживать настоящим масштабом вещей. Ему можно и помешать. А с другой стороны, он двигается все же на сцене. Мне казалось, что за таким деревом можно и прятаться, и ходить по такому саду: это нисколько не может мешать реальности игры и в то же время совершенно не будет вас беспокоить. Вопрос в том, что же такое это «материально». Во Втором МХТе — в «Петре» изображается дохлая лошадь на сцене, и крестьянин над ней плачет. Дохлая лошадь изображается бутафорски, из папье-маше. Представьте себе, на сцене лежит лошадь. Даже если положить настоящую лошадь, она будет иметь очень неясные признаки — лежащего чего-то. Зритель, естественно, заинтересован: что же там лежит? — хотя эта форма очень мало рассказывает о том, что там лежит. Когда вы убедитесь, что это лошадь, вы заинтересуетесь — как же она сделана? Тогда окажется, что вы интересуетесь, в сущности, вопросом второстепенным. Каждая вещь на сцене, изображая что-то и по возможности образно изображая, должна быть еще сценической вещью. Это может быть занавес, ширма, какое-нибудь панно, может быть какая-то конструкция, а изображать она будет дом или сад и т. д. То есть какой-нибудь ковер может изображать, предположим, лес или сад, а занавес может изображать дом и т. д. Такой принцип мне представляется действительным не только для сцены. Но на сцене он, несомненно, действителен, потому что там мы имеем не остановленное изображение, а изображение в действии, все время обыгрываемое и обыгрываемое, собственно, игрой актера, а не настоящим действием людей. Если бы мы взяли настоящую природу, то только исключительную природу мы могли бы предоставить актеру для игры, а всякую природу мы не могли бы предоставить, потому что природа задавила бы его своими масштабами. «Двенадцатая ночь» — комедия, и многие считали, что комедия имеет право так разрешаться, а трагедию, например, так разрешать нельзя, для трагедии такая условность недопустима. Правда, шекспировские трагедии мне не пришлось делать, но я представляю себе, что, может быть, не всякую трагедию, но очень много трагедий можно так же делать, в том же принципе, но, конечно, не в этом характере. Вся сцена решалась одной конструкцией на все действия; причем конструкция состояла из колонн и штанд, которые между колоннами растянуты, и на штанды надевались разные занавеси, которые были либо в свернутом, либо в развернутом состоянии. Задник оставался тот же. Затем, после этой вещи я делал «Мольбу о жизни». Там тоже на круге. Затем — пушкинские вещи. Из пушкинских вещей я делал три, но пошли только две. Я делал «Моцарта и Сальери», «Каменного гостя» и «Скупого рыцаря». «Скупого рыцаря» не поставили, потому что театр не справился. В МОСПС, если вы знакомы с этим театром, очень неудобная сцена. Там, правда, круг, но нет колосников и, следовательно, никакого подъема и никаких карманов. Поэтому три пьесы и не могли уместиться там на сцене. То, что я сделал в макете, и то, что было в эскизах,— не все можно было даже осуществить, потому что какие-нибудь три дерева проектируешь, а оказывается, что с этими тремя деревьями зашиваются и антракты становятся очень длинными. Пушкина я решал таким же принципом, как и «Двенадцатую ночь», причем здесь это было труднее, потому что три вещи должны были пойти, хотя пошли две. Следовательно, перемены были большие. Здесь как раз была возможность решать и не только комедию, потому что, если взять хотя бы «Каменного гостя», то здесь есть и очень трагические моменты. Мне казалось, что в «Каменном госте» в последней сцене мне удалось дать серьезные и трагические моменты совсем легкими вещами, то есть занавесами и т. д. Кроме того, я делал «Собаку на сене». Отчасти я делал ее сознательно похожей на «Двенадцатую ночь». «Двенадцатая ночь» тогда уже не шла, и все то, что делалось для «Двенадцатой ночи», пропало, и мне хотелось немножко ее вспомнить. Кроме того, и «Двенадцатая ночь» трактовала об Италии, и эта пьеса трактовала о Неаполе, о Южной Испании; правда, Неаполь испанский, но все-таки Неаполь. Поэтому я всю конструкцию сделал почти такой же, но в другом роде: с лестницами, с несколькими планами (в смысле горизонтов планов), с арками другого типа, с колоннами другого типа — но все-таки подобную же конструкцию. Неудобство сцены в театре Революции такое: пролет 12 метров и круг 12 метров, а от занавеса до задника 9 метров, так что при движении круга задник и занавес отводятся рабочими и тогда только круг может двигаться. Настаивали на том, чтобы в данной вещи конструкция на круге была ограниченной, въехала бы не в 12 метров, а в 9 метров. В общем, это привело к тому, что задник сидит на конструкции, задник совсем близко, и поэтому он не виден почти совсем и почти что является лишним. Я принес этот задник и могу показать его. Могу вам показать и эскиз декорации к «Скупому рыцарю». Мне хотелось рассказать, что за тип Альбер. Он человек, по-моему, очень свободный, очень простой, хотя и живущий в замке, а не в какой-то совиной норе. Проявляет он себя как охотник. Теперь относительно «Собаки на сене». Я могу показать вам задник, изображающий Неаполь, необычного вида, без горы. К сожалению, его в театре почти что не видно. Еще об одном принципе хотелось бы сказать, который мне всегда хочется осуществлять и который отчасти я осуществляю во всех вещах, насколько это мне удается,— это соединение различных искусств: скульптуры, архитектуры и живописи. Вы знаете, что соединение различных искусств, то, что называется синтезом искусств, это, с одной стороны, есть высшее достижение искусства; с другой стороны, оно же чревато и ошибками, грехами. У Гете есть такое высказывание, что вообще искусства, отдельные художественные дисциплины должны отталкиваться друг от друга, должны как бы обособляться и ни в коем случае не смешиваться. Смешение искусств, по мнению Гете, есть признак художественного упадка. Может показаться, что Гете возражал против синтеза искусств, но, в сущности, он не возражает, мне так кажется, потому что в другом месте он этот синтез признает, но он возражает против простого смешения, когда отдельные дисциплины, входя в общий концерт, не выявляют своего метода полностью, а непосредственно, незаметно переходят в другой метод. Это, собственно, то, что мы видим в панораме, и то, что мы очень часто видим в театре, когда какая-нибудь скульптура служит как бы затравкой для того, чтобы получить впечатление действительной глубины, действительного объема, а дальше вас задник захватывает. Не то чтобы эту глубину почувствовать в живописи, а делается так, чтобы было неясно, где же, собственно, начался задник и где кончилась скульптура. Мне представляется, что можно вполне передавать реально [глубину в живописи] и тогда, когда вы ставите рядом скульптуру, объем и живопись; тем самым вы даже подчеркиваете, иногда почти нарочито, что это живопись и, следовательно, как вещь — это плоская вещь, хотя и с глубинным изображением; а это — глубокая вещь, объемная вещь, будет ли это архитектурная или скульптурная форма. Такие сопоставления мне представляются всегда очень ценными, потому что, если вы берете хотя бы тот же задник совершенно иллюзорным, переводящим вас от скульптуры в живопись, то вы теряетесь, у вас возникает дурное любопытство: где же и как же это? Мне представляется, что будет правильно, если этот задник мы будем чувствовать как задник, но в то же время его живопись, его чисто изобразительные моменты, его цвет, светотень и т. д. дадут нам и большую изобразительность, и расскажут об этой глубине и т.д. Здесь все время, как мне кажется, идет речь о двух масштабах — о масштабе изобразительном и о масштабе вещевом, и на этом можно очень и очень играть. Художник может добиваться очень монументальных решений и на небольшой сравнительно сцене, потому что если вы будете добиваться просто иллюзорного изображения, то тогда вы действительно должны давать все в натуральном масштабе, все в настоящем объеме и т. д. Следовательно, монументальность будет достигнута на малой сцене исключительно в силу того, что вы можете какой-то кусочек передать [как явление масштабное]. Я помню, на фестивале иностранцы смотрели «Двенадцатую ночь». С одной стороны, были одобрительные отзывы, лично мне говорили; а с другой стороны, одна художница, норвежка, напала на меня за то, что я интерпретирую Шекспира, тогда как я как живописец и декоратор на это права не имею, по ее мнению. Слова должны звучать и действия, но главным образом — слова, тут должна быть интерпретация. А живопись должна дать куски действительности, на фоне которых это и должно происходить. Мне представлялось, что это было бы неправильно, если бы декоратор не имел права интерпретировать. А если он интерпретирует, изображает, то, следовательно, ему мало, если он даст просто кусок натуры, он должен рассказать о том городе, куда выйдут герои, и об этом море в целом, из которого они выбрались, и т. д. А для этого ему приходится, что называется, изображать условно. А, в сущности, условное изображение — это термин не совсем правильный, здесь скорее надо было сказать о метафоре, то есть об изображении при помощи различных форм. Вот так бы хотелось действовать. Конечно, не всегда удается добиться такого решения. На последней вещи, которую я делал, нет круга. С одной стороны, я доволен, потому что меня всегда техника сцены очень связывает. Раз существует круг, то нужно его использовать, а здесь нет круга, так что была возможность по-другому решить. Сцена очень большая, такая большая сцена имеется только в Большом театре. Теперь будут большие сцены: 16 метров окно и 20 метров глубина. Сейчас я делаю «Виндзорских кумушек» в музыкальном варианте, в музыкальной редакции. Здесь имеется много сменяющихся картин, все должно быть очень легким и сменяться очень просто. Это у нас еще не проверено, это еще в работе, поэтому я вам покажу только два эскиза. Когда я делал Пушкина, «Собаку на сене» и «Двенадцатую ночь», мне прежде всего хотелось дать самое характерное для этих вещей, и особенно это интересно было делать в пушкинских «Маленьких трагедиях», потому что там три вещи в одном спектакле. Причем мне так представлялось, что «Скупой рыцарь» — это век 13—14, затем 16 век — это «Каменный гость», и 18 век — «Моцарт и Сальери». Я думал, что «Моцарт и Сальери» может быть построен на светотехнике. Должен сказать, что я в этом совершенно неопытен и только делаю разные пробы в свете на сцене, потому что мне не приходилось встречаться с хорошей осветительной аппаратурой на сцене. Регулировать свет как следует и отвечать за него как следует мне не пришлось. В характеристике, мне кажется, можно использовать как бы разукрашенные рисунки, как я делал в «Двенадцатой ночи», и, с другой стороны — чисто светотеневые решения, как я делал в «Моцарте и Сальери», затем откровенные цветовые решения, как я думал делать в «Скупом рыцаре». ВОПРОС: Было бы интересно, если бы Вы рассказали, как Вы работали над постановкой «Мольба о жизни». — «Мольба о жизни» не совсем вышла удачно, как мне кажется. Там вышли места неплохие, но некоторые места мне не удались, как мне представляется, отчасти из-за материала. Надо сказать, что делаешь эскиз, макет, все это как будто идет хорошо; когда же вы доходите до выполнения в материале, то здесь чрезвычайно важно, как это все выполняется. Я делаю пятый спектакль, и такого выполнения, как в «Двенадцатой ночи», я не видел. Этому очень способствовал Хачатуров, который за выполнение очень боролся, и все делалось, по возможности, настоящее. Колонны делались деревянные, что должно было быть резным — было резным, что токарным — токарным и так далее. Много было сделано аппликаций. Даже во Втором МХТе на премьере «Мольбы о жизни» я заметил, как постепенно это скрадывалось, причем уже в «Собаке на сене» — там просто делались колонны картонные, следовательно, они скорее похожи на водосточные трубы. Я давно не смотрел и представляю себе, что там все в ужасном виде. В МОСПС — выполнение было довольно слабое, особенно слаба была монтировка, там ни одна колонна прямо не могла стоять, все они наклонялись, все они падали в ту или другую сторону. Мне приходилось говорить, что они падают, и их толкали, и они валились. Так что такая вещь, как выполнение и монтировка,— это даже не половина, это гораздо больше, чем половина: это действительное осуществление вашего эскиза. В «Мольбе о жизни», мне кажется, не получился город. Там в первой сцене задником является мрачный Нотр-Дам — это вышло как будто бы. Затем мне хотелось повесить как бы полотенца, на которых написан Париж, это справа и слева должно было быть к каждой конструкции, причем чтобы пространство подсвечивалось: первый план подсвечивался через другой. Но «полотенца» все сделали на холсте, а не на какой-либо легкой материи, и все превратилось в мятые тряпки. Естественно, что пришлось холст тянуть, чтобы не было складок, и все потеряло тот смысл, который должно было иметь. Правда, я не ручаюсь, что если бы это был шелк, то вышло бы как следует. Это был, конечно, опыт; может быть, это вышло бы и замечательно, а может быть, и не вышло бы. Между прочим, я попробовал, по-моему, довольно интересную вещь. Предположим, делаешь комнату и там есть столы, стулья, с которыми действуют актеры, а остальную мебель — стулья и этажерки, не говоря уже о картинах и о том, что должно висеть на стенах,— я писал на стенах. Мимо них актеры ходили, и получалось занятное впечатление, то есть ни в какой мере это зрителя не шокировало и не должно было шокировать: этот стул был явно написан, на него, конечно, не садились, и он совсем не мешал проходить вдоль стены близко. Это же сделал я и в «Моцарте и Сальери». Там все полки на стене написаны, и мне представлялось, что это совершенно явно, иллюзии не получается, ошибки не получается: «Ах, это написано!» Да, это написано, но это рассказывает о том, что в комнате есть, и в то же время страшно облегчает, там материальности вещей нет; причем попытка освещать тоже нисколько не нарушает, как мне кажется, образности. Такие вещи, как комнаты, комнаты современные, вообще комнаты — трудно делать, а в «Мольбе о жизни» страшно трудно было делать сколько-нибудь образно. Я кое-что в этом смысле делал, но все-таки там были и довольно прозаические места. ВОПРОС: Было бы интересно, если бы Вы рассказали о работе над костюмом и гримом. - Должен сказать, что костюм, пожалуй, мне легче удавался, грим — меньше. В отношении грима я совсем себя считаю неопытным человеком. Наблюдая репетиции актеров без костюма и грима, так привыкаешь к актерским физиономиям и их мимике, что потом, когда они начинают уже гримироваться, обычно разочаровываешься, потому что мимика у них пропадает в очень большой степени. В смысле грима я не очень представляю себе, скорее представляю всю фигуру. Относительно костюма — это другое. Мне костюмы интересно делать всегда, причем понимаю это как всю фигуру с лицом — характерный профиль. Как раз в «Мольбе о жизни» мне пришлось работать над очень интересной задачей. Началось действие в пьесе в 1870 году и кончилось в 1932 или 1933 году и проходило через все моменты моды. Было очень интересно работать именно над профилем женской фигуры в 1870 году, с турнюром; потом начался модерн, 1902 год,— тоже очень интересно; в конце концов, 1933 год — совсем другой тип. Совершенно ясно отличался костюм мужской 1870 года от костюма 1902 года, а вот уж потом, в сущности, особенно характерных отличий я не наблюдал: цилиндр немножко иной или отвороты другие, фасон брюк другой, но профиля это особенно не меняло. В женской фигуре время сильно меняло профиль, и было очень интересно, когда они сменялись и во времени сопоставлялись. Я с благодарностью вспоминаю некоторых артисток, которые самопожертвование работали над профилем. Затем, мне кажется, что костюм очень характеризует фигуру в смысле формы и цвета. Иногда его можно вводить не натуралистически. Я помню в «Двенадцатой ночи» был такой вопрос. Там Мария имела костюм ренессансного типа, серый с красным и черным. Ночью ее будят, она вскакивает, она как будто бы раздета, в ночной рубашке или что-то в этом роде. Тогда мы сделали греческий костюм. Мне не нужно было, потому что это Иллирия так называемая, закрепляться особенно на костюмах Ренессанса. Костюм был очень свободный и мог играть роль ночного костюма. Например, тот эскиз костюма Дианы, который я вам показывал, был отвергнут — в верхней своей части — Бабановой, это она выступает в первой сцене; потом она выскакивает ночью, можно было ее подать полураздетой, а мне казалось, что как раз хорошо было бы, если бы она была затянута, но только в белое, так что она бы изобразила в темноте хозяйку, строгую, гневную, а цветом изобразила бы, что это ночь. Вообще мне казалось, что цвет можно было бы интересно разыгрывать. В «Собаке на сене» я думал менять цвета сцены, то есть идти от черного, предположим, через какие-то оранжевые сцены и оранжевые костюмы. Но это не вышло, потому что тогда нужно было бы декорации менять. Это вышло бы слишком роскошно. В «Двенадцатой ночи», я помню, были второстепенные костюмы — стражников, хватающих морского разбойника. Их латы были сделаны из материи. Если вы не придеретесь, вы получите впечатление, что это солдаты и действительно латы. Им это было интересно делать. ВОПРОС: Вы очень долго наблюдаете актера, прежде чем дать эскиз костюма? — Да, пожалуй, долго. Быстро это не получается. Это очень трудно. Очень часто актеры не соглашаются, нужно средства актера знать. В то же время пьеса требует совершенно другого, чем его средства. Но можно согласиться и с его трактовкой. Так что это иногда и очень трудно. Иногда актеры бывали довольны костюмом. Между прочим, сэр Эндрю в «Двенадцатой ночи» всегда, когда встречал меня, говорил, что он не представляет, как бы он играл без своего костюма. Образцов играл там шута. Шута вообще очень трудно играть, потому что ведь он все время шутит, и часто шутки как будто бы вовсе неостроумны— они переведены, они не звучат как просто каламбур, и ответа у зрителя на эти шутки непосредственно хохотом не получается часто, получается, что он говорит плоские вещи. Образцову было довольно трудно с этой ролью, и он стал просить что-нибудь дать ему в руки, чем он мог бы играть. Я вспомнил, что в старом немецком обиходе дурак назывался Kalb, то есть теленок, шут, и даже был такой обряд: человека, которого посвящали в дураки, поили пьяным, обшивали шкурой теленка, сажали его в хлев и некоторое время обращались с ним, как с теленком. Потом он выходил оттуда и имел право говорить правду, быть независимым от всех людских отношений и в смысле начальства, товарищей и так далее. Вспомнив это, я дал ему шкуру теленка, и он с этой шкурой выделывал всякие вещи и очень удачно. ВОПРОС: Вы стоите за меньшее количество грима? — Я помню, Мальволио выдумал себе редкие кудряшки. Я за это не стоял, мне казалось, что это лишнее, а ему это очень много давало. Правда, шляпу, которую я ему дал, он очень ценил и даже берег ее до последнего момента; когда он последний раз являлся на сцену в заключительном акте, он являлся в этой шляпе, и зрители на эту шляпу реагировали. Он к этой шляпе относился с большим уважением. Когда я делал «Собаку на сене», Орлов играл Тристана, слугу. Я дал грим, причем мне казалось, что это испанец, немножко похож на писателя испанского, но уж очень потертый, немножно смешной, но типичный испанец шестнадцатого века: с усиками, бородкой, с трепаными волосами, даже с челкой. Я помню, когда я показал ему, тут же был Астангов, он захохотал и сказал: «Какой-то Шекспир!» Это какую-то реакцию должно было дать. Я подумал: как нарисовать брови? Решил — как у южан бывают, особенно заросшие. Потом оказалось, что Орлов не хотел играть испанца, он решил — а нельзя ли его русским играть? Я не сочувствовал тому, что он хотел играть русского. Тут вышло расхождение. С гримом я не могу сказать, чтобы я особенно удачно решил. Вопрос: Были у Вас неприятные столкновения с постановщиками? — «Двенадцатую ночь» ставили Гиацинтова и Готовцев. Сперва Готовцев протестовал, а потом одобрил. Ему казалось странным, как я уже говорил, что актеры уходят не через дверь. Там были арки, и можно было считать, что вы уходите через арку, но приходилось уходить через кулисы. Гиацинтова поддерживала меня в этом. Потом все артисты, которые играли в этой вещи, хорошо себя чувствовали. Они говорили, что очень много пространства. Пространства можно было еще больше дать. Иногда, по моему настоянию, уводили на задний план фигуры, и актеры там стояли, но так как по большей части это были не очень сильные актеры, то за них боялись, чтобы они там не действовали, чтобы они не отвлекали внимания от первого плана. Мне представляется, что было бы очень приятно и интересно, если бы на первом плане шла какая-нибудь трагедия, а на заднем плане можно было иметь какую-нибудь легкую вещь, какие-то жесты и т. д. Но на это не решились. Но в общем шли навстречу, и глубина все время обыгрывалась. С Берсеневым я работал над «Мольбой о жизни». С ним было очень интересно. Когда он был режиссером, Гиацинтова работала с актерами. Меня всегда поражало, как она это дело вела, она только иногда помогала кое-кому, и мне это страшно нравится. Одна артистка напустила на себя какое-то настроение и затем играла весь этот кусок в одном тоне, одном каком-то настроении, и получилось довольно скучно и нудно. Софья Владимировна Гиацинтова разобрала этот кусок: что здесь — то-то, а это — совершенно другое: предположим, вы с мужем разговариваете, вы не знаете, что он знает о чем-то, а здесь вы начинаете подозревать, а тут вы явно знаете. Она тут же при этой артистке начала разбирать, и у нее вышло очень здорово. В «Собаке на сене» большую роль играла Мария Ивановна Бабанова в смысле режиссуры, относительно всего спектакля и всего замысла вещи; причем это было очень трудно, как всегда в театре, где много народа и где люди судят все время с разных сторон. Одни говорят, что так нельзя, что это нужно превратить в легкую комедию, иначе это бессмысленно; другие говорят наоборот: это испанские страсти, тут кровь должна литься. Мне представляется, что Бабанова очень здорово провела тип этой вещи, и во всех ролях, не только в своей роли. Относительно декораций они все время сочувствовали, тем более, что в макете это было гораздо лучше, чем в выполнении. Следовательно, они в макете уже были увлечены. Когда это было на сцене, это меньше звучало, потому что было выполнено хуже. Бабанова и другие актеры говорили, что им приятно играть, так как это вертящаяся сцена. Больше у меня как будто никакого опыта с режиссерами нет. То, что я сейчас делаю, до настоящей работы с режиссером еще не дошло, и что-нибудь сказать пока трудно. ВОПРОС: Постановщики предъявляют Вам какие-нибудь требования или они целиком полагаются на Вас? — Я пропустил один момент. С Бирман я работал в Пушкине. В общем получается так: сначала с меня ничего не требуют, ничего не предъявляют, а потом начинаются некоторые споры, несогласия, иногда больше по технической линии, чтобы упростить задание и так далее; иногда — по линии изобразительной, образной. С Бирман были какие-то споры, но сейчас я уже забыл по какому поводу. Но в общем все это кончилось довольно благополучно. ВОПРОС: Мне хотелось спросить о свете, об освещении. - В этом смысле у меня опыта не получилось достаточного. Когда я делал «Двенадцатую ночь», то режиссер и актеры хотели ночи, едва освещенной сцены, а мне, естественно, хотелось, чтобы был свет, чтобы все было видно. Тут был конфликт. Я думал, как бы сделать так, чтобы ночь выражалась не светом, а цветом. Там это удалось в какой-то мере сделать. Все время я добивался того, чтобы вся сцена была прозрачная, чтобы вся сцена была видна. Во Втором МХТе любили так: маленькую мизансцену нужно сделать — все затемняют, а этот маленький кусочек освещают. Я доказывал, что темнота кругом — это вовсе не ночь. Гораздо лучше, если будет виден задник, пусть он виден, а перед ним что-то происходит. Зачем обязательно темнота или с огнем кто-то ходит? Это страшно любят. Дальнейшая работа — в МОСПС над «Моцартом и Сальери» — в смысле света удалась, а остальные не удались. «Собака на сене» в смысле света не получилась. Во-первых, вы наталкиваетесь на голубой свет. В театре вы не находите зеленоватого света через индиго, который может давать очень интересные соединения. Тут, как только ночь настает, сейчас же выходит синее, а так как при этом желтый пропадает, то получается розовый, фиолетовый — очень сладкие цвета. С этим я справиться не мог. Меня этот свет все время не удовлетворял в смысле живописи. Сейчас в макете мы делаем опыты со светом. Нужно луну показать. Чем же писать ее? По-моему, здесь нужно много серого, потому что, если вы будете освещать зеленоватым или голубым светом и писать этим же цветом, то пропадет моделировка. Иногда интересно обыгрывание силуэта. Когда вы имеете красноватый силуэт и освещаете его синим, он вдруг становится совсем темным и вылезает; наоборот, если вы освещаете голубым, то он совсем пропадает. Это тоже, конечно, возможно, но тут было много случайного. В свете я не представляю себе, как это. В «Моцарте и Сальери», в силу того что сцена очень небольшая, был использован рефлектор, в одной из стен был один источник света. Это, между прочим, очень хорошо. Это, должно быть, очень много дает в иных случаях, потому что тени совершенно определенные, тени рассказывают о пространстве. Это очень приятно. Это по большей части осуществимо на большой сцене, но для этого нужны очень сильные рефлекторы. ВОПРОС: Хотелось бы несколько подробнее узнать о Ваших взаимоотношениях с постановщиками в первичной стадии работы. Предъявляется ли Вам постановщиком экспликация или Вам предоставляется полнейшая свобода действий? — По большей части вначале бывали разговоры только о духе вещи. Иногда я сам приставал: а в какую сторону вы будете уходить со сцены? И так далее. Сперва я давал план, а затем он обрастал декорациями и так далее, то есть уславливались на плане о движении и так далее. Большей частью вопросы ставились так: вот круг, как на круге поместить все картины? Если вы возьмете «Двенадцатую ночь», то там картин без конца. Если вы возьмете, например, пушкинскую вещь, то в «Моцарте и Сальери» две картины, в «Каменном госте» — четыре картины. Шесть картин должны были пойти в один вечер. При слабом оборудовании сцены все это должно было быть на круге. Кроме всего прочего, решались технические вопросы. Я вспоминаю работу с Бирман, когда она ставила «Каменного гостя» и должна была ставить «Скупого рыцаря». Когда я подал эскиз, который я вам показывал, она нашла, что он легковат, что он не выражает той тяжести, мрачности эпохи и так далее. Я спорил, я не соглашался. Мне иногда кажется — может быть, это моя ошибка — что необязательна буквальная мрачность, что очень яркий цвет, если он встает жестко, в каких-то простых отношениях, может дать больше суровость эпохи, чем темнота, мрачность и так далее. ВОПРОС: Правда ли, что в «Двенадцатой ночи» Вы упразднили каблуки у всех действующих лиц и распространилось ли это на спектакль «Собака на сене»? — В последнем спектакле этого не было. У Бабановой были высокие каблуки. А в «Двенадцатой ночи» мне удалось убедить, что каблуки не нужны по эпохе — с одной стороны, а с другой стороны, что я костюмом добьюсь, чтобы актеры были высокими. Мне кажется, что это удалось. Тут по-разному приходилось к костюму подходить. Например, Софья Владимировна Гиацинтова — она небольшая, но очень стройная; ее нетрудно было сделать высокой. Я сделал это, как ни покажется странным, горизонтальными делениями фигуры, и она стала очень высокой. Где-то даже доказано, что горизонтальные деления делают низким, а вертикальные — высоким. Однако я видел какую-то книгу, и там была нарисована статуя с горизонтальными линиями и с вертикальными. Оказывается, с горизонтальными линиями фигура кажется высокой, а с вертикальными — широкой. Очень увеличивает фигуру, если вы проводите по всей фигуре сверху донизу одну сильную линию. Это очень увеличивает рост. А если вы даете целый ряд вертикальных линий, то это расширяет фигуру. У Гиацинтовой был ренессансный костюм, в талию, подобран, затем еще подобран, и юбка еще с каймой, таким образом, членение было горизонтальное. Когда я делал костюм Виолы, был большой страх, что он будет толстить фигуру. Я сделал гофрированный колет, он без пояса расходился, а дальше трико. Дурасова боялась, что от этого будет короткая фигура, толстая. Оказалось, ничего подобного. Помогло здесь то, что рукава были тоже пышные, тогда оказывалось, что шея, голова и ноги в трико дают основной масштаб. Между прочим, и с Бабановой по этому поводу пришлось думать, она в конце концов согласилась, что широкая юбка может дать талию гораздо тоньше. ВОПРОС: В «Мольбе о жизни» артистки очень шнуровались? — Мне казалось, что удалась сцена, где умирает жена Массубра и приходит Софья Владимировна, которая играла жену приятеля Массубра, и потом приходит секретарша. Это 1905 год. Особенно секретарша была в очень характерном корсете, когда живот убран. Они все в черном были, они пришли в качестве траурных птиц, силуэт получался занятный, они совершенно иначе и руками и ногами делали, все жесты были почти печальные. ВОПРОС: С какими неожиданностями Вы встретились в театре? Хотя бы в «Двенадцатой ночи» — были какие-нибудь неожиданности для Вас? — Когда я композиционно, в макете делал, то мне казалось, что задник должен быть так написан: композиция задника покрывает всю конструкцию. Я думаю, что это неожиданность наибольшая. Оказалось, ошибка была в том, что на макете все смотрелось немножко сверху, поэтому задник работал, а когда он буквально был перенесен на сцену, то оказалось, что он низок, его пришлось поднять на метр. Ну, вот такая неожиданность была. Потом бывали неожиданности с материалом — казалось, что это зазвучит, а это не звучит. ВОПРОС: Счастливые неожиданности были? — Это всегда бывает, если вам хоть что-то удается — чуть-чуть цветовое, например, решение. В смысле света тоже иногда неожиданно было хорошо. ВОПРОС: Что Вы можете сказать об интерьерах? — Тут вопрос такой: как вы подадите актера этим интерьером. Конечно, по-разному может решаться. Я обыкновенно говорю, что меня интересует такой момент: например, актер где-то в пейзаже — это одно; когда он выходит на просцениум, он как бы в зале — это другое. В некоторых пьесах это по-разному будет давать ему преимущества. Мне кажется, что замкнутый интерьер большей частью тем и скучен, что он уже держит актеров в своем пространстве, за каким-то стеклом, правда, иногда он может выйти на просцениум и обратиться к публике, но это звучит немножко как нарушение этого пространства. Я делал еще одну вещь, которую я не упомянул, потому что она не шла, но она была осуществлена в декорации и в репетициях — это «Ложь» Афиногенова. Там было два интерьера, а третий—терраса с садом, с видом, с пейзажем. В современных пьесах пришлось решать не столько интерьеры, сколько половинки чего-то. Вам говорят: направо — выходят туда-то, налево — сюда-то, сзади — вход в какой-то парк. Что это, собственно? Само по себе это не архитектура и не совсем цельная вещь, это решать всегда страшно трудно. Мне так кажется. Поэтому легче решать, когда Шекспир говорит: «Дворец» или «Кабачок»,— не говорит, что это — задний выход или парадный. В Афиногенове я делал комнату и попробовал такую вещь сделать, которая что-то давала: я сделал потолки, комнату давал на угол с двумя стенками и пол рисовал. Получились, правда, на сцене такие места, куда актеру нельзя было ходить. Но актеры, между прочим, этим увлекались и обыгрывали выступающие стенки. Ходили мимо них, участвовали в декорациях, в изображении пространства очень истово. Между прочим, в связи с вопросом о круглой сцене. Я вспоминаю, что когда я рисовал Марию Ивановну Бабанову, то занимал ее разговорами, потому что неудобно рисовать молча. Я ей в дискуссионном порядке вытащил эту круглую сцену, как она к этому относится. Она очень любопытно ответила: «Конечно, это замечательно!» Но однажды она играла в цирке, не помню, в какой вещи, и в то время как на нашей сцене очень легко спрятаться и отдыхать даже, там приходится играть все время и всеми сторонами. Отчасти, конечно, в Афиногенове было то же, так как комната выходила углом в зрительный зал. В «Виндзорских кумушках» я так же решаю с пейзажем интерьер. вопрос: Хотелось бы услышать о понятии театральности и об условности как способе изображения. Например, существуют в театре спектакли «Поднятая целина», «Тихий Дон» и классическая комедия, хотя бы шекспировская. Если в последней как способ изображения непосредственно возникает условность, то в других — понятие реализма. — Конечно, по-разному можно решать, но все-таки получается всегда так: когда вы буквально хотите воспроизвести действительность, то она не поддается, она все-таки звучит фальшиво. Следовательно, так или иначе, но нужно изображать ее. Тут вопрос именно такой: если вы как-то больше увлечены вещью, например шекспировской вещью, тогда занавес может быть домом, на этом актеры и играли. Актер приходил к этому занавесу и давал серенаду, как перед домом, и даже стучал в него, затем перед ним этот занавес отдергивали, и он входил. В комедии это возможно. В трагедии это отдергивание, может быть, нужно подготовить как следует, может быть, нужно не отдергивать, а разорвать. Но в шекспировских спектаклях это возможно. В современных это будет более натуралистично, но все-таки это будет отнюдь не буквальное воспроизведение действительности, а по возможности изображение. Тут материал очень много значит. Я сейчас очень ограничен в материале. Мне кажется, что взял объем занавесом — и это дело решает. Весьма вероятно, что не только это, а что есть масса всяких других решений и масса других материалов. Но совершенно ясно, что к материалу нужно относиться очень образно, чтобы он сам звучал и изображал и не было какой-то попытки буквальности, а если дать буквальность и в то же время классические краски, то фактура орет, и вы с этим ничего не сделаете. Тут разные способы могут быть. ВОПРОС: С каждой новой постановкой у художника должна меняться манера, фактура? — Нужно прежде всего думать, чтобы выполнить вещи, а потом, может быть, окажется, что они все носят один характер. Когда я делал «Двенадцатую ночь», мне кое-кто говорил: «Это не ново, это уже было». Я думал — а почему я должен делать совсем новое? Я делаю так, как мне кажется нужным для этого спектакля. Или другой: «Это напоминает то, что Вы делали раньше». Я это тоже не понимаю. Я когда-нибудь буду делать по-другому, а сейчас я делаю так. Первые пять спектаклей я буду делать так, а другие пять — иначе. Но буду делать тогда, когда я это пойму. Или: «Это у Вас похоже на то, как в том спектакле у такого-то, это нужно как-то изменить». Это тоже для меня непонятно. Похоже — ну и похоже, что же такое? ВОПРОС: Вы, говорите о вещах, в какой-то мере аналогичных по характеру, а вот если диаметрально противоположные по духу, по эпохе и по своему содержанию. Тогда каким образом поступить? Придется любые свои приемы отбросить. — Мне кажется, что о приемах не надо думать, а думать о выражении. Я не могу говорить это четко по театру, потому что опыт у меня здесь небольшой, но если говорить про иллюстрации, то тут опыт у меня порядочный. Я никогда не думал о сохранении приема ни в каких иллюстрациях и делал вещи как будто противоположные, как мне кажется. Я делал Пришвина, Мериме и других, и я думаю, что все эти вещи пахнут совершенно определенным. По поводу «Собаки на сене» острили, что это «тринадцатая ночь». ВОПРОС: Каково Ваше отношение к материалу? Если бы Вам пришлось оформлять «Овечий источник», как бы Вы поступили в отношении материала? — «Овечий источник» не так уж отличается. У меня нет такого чувства, что оформление «Двенадцатой ночи» годится только для этого спектакля. У меня было такое предложение для Второго МХТа, потом я предлагал Завадскому, но ни те, ни он на это не откликнулись. Дается архитектурная конструкция, хотя бы «Двенадцатой ночи», она может изображать все, что угодно, но в каком-то условном жанре. И вот получается, что в этой конструкции при каких-то изменениях можно играть почти все комедии Шекспира. Завадскому я предлагал потому, что в провинции вы должны сделать не четыре 'постановки в год, а двадцать постановок в год, потому что в месяц весь город побывает у вас. Как раз в «Двенадцатой ночи» самый выгодный момент, как мне казалось,— это одни колонны и никаких занавесей. Все актеры могли прицепиться, облокотиться, обойти их. Мне казалось, что если бы человек зашел в эти колонны и изобразил бы, что он заблудился в этих колоннах, если бы он здесь играл, это было еще лучше, чем если бы это были настоящие деревья. |
