Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
Но все ли методы изображения, все ли типы живописных рельефов обладают изобразительным масштабом? По-видимому, изобразительная масштабность картины будет состоять в том, что вы как зритель ставитесь мысленно или фактически на определенное место относительно изображения, ближе или дальше, и отсюда получается то, что изображение относительно вас растет и тем самым получает все более и более монументальные масштабы. Раз нам указывается определенное место, с которого мы воспринимаем изображение, следовательно, это изображение не безразлично уже для нас по величине и, наоборот, приобретает уже определенные размеры. На вопрос: все ли типы изображения будут обладать таким масштабом,— мне кажется, следует ответить, что нет, что мы можем себе представить методы изображения, в которые не входит по существу наше пространственное отношение к изображаемому. Если мы представим себе крайне осязательный изобразительный рельеф, не имеющий точки или плоскости зрения, не проекционный по методу изображения, то есть не определяющий нашей пространственной базы, то такой рельеф, потребовав от нас почти чисто осязательного движения по поверхности, почти полного приникания к ней, до того повысит масштаб, до того напряжет его, что он может и не чувствоваться. Разговаривая о различных типах изображения, мы все их определяли как плоскостные, то есть развивающие принципы плоскости, к которым относится и глубина. Это касается и осязательной поверхности. Но можно себе представить просто плоское изображение, желающее быть чисто двухмерным. Попытку такого изображения мы встречаем в 19 веке в так называемом декоративном искусстве, где предметы стилизуются и тем самым как будто становятся безусловно плоскими. Мне кажется, что такое изображение абсурдно; и, отказываясь от рельефа и желая быть плоским, оно просто в смысле плоскостном не организовано. Но во всяком случае оно-то никаким изобразительным масштабом не обладает, так как не организует моей пространственной базы и не требует и осязательного приближения к изображению. Следовательно, такое изображение не будет само по себе масштабным. Точно так же, как, мне кажется, не будет масштабным и противоположный способ изображения, а именно способ перспективной проекции. Требуя от воспринимающего, чтобы все изображение попадало в поле зрения, и делая приближение к изображению невозможным, а удаление, наоборот, возможным на любое расстояние, перспективная проекция тем самым не организует моего восприятия в смысле определенного места в пространстве и, по-видимому, не обладает и изобразительным масштабом. Отсюда можно заключить, что определенное отношение моментов третьего измерения к плоскости, а в объемном рельефе отношение объемов, их весовых центров к плоскости — даст масштаб изображению, так как требует и определенного моего [местонахождения, мысленного или фактического, перед картиной. Возьмем объемный рельеф. Относительно него можно сказать, что умножение весовых центров, хотя бы в человеческой фигуре, приблизит изображение к нам и сделает его монументальным, и, наоборот, сведение веса к немногим центрам удалит от нас изображение и сделает его относительно меньшим. Пространственный рельеф, сжимая глубину между своими основными плоскостями, будет повышать и повышать масштаб и приближать зрителя, и наоборот, давая большую глубину, отодвинет от нас изображение и сделает его меньшим (конечно, тому и другому есть пределы). Эти моменты мы можем проверить, и стоя перед натурой, и стоя перед стеной. Глядя на постановку в мастерской или на модель и удаляясь или приближаясь к ней, мы можем наблюдать, что, желая обнять ее всю и в то же время стараясь связать ее рельефом, мы при объемном восприятии формы или, воспринимая ее равномерной глубиной, умножим весовые центры или сожмем третье измерение. Подобно этому, если мы, стоя перед стеной, проектируя на ней мысленно какой-либо рельеф на небольшой площади, будем увеличивать поле изображения, стараясь в то же время сохранить за ним равномерную глубину или высоту рельефа, то мы обнаружим, что глубина рельефа будет относительно площади изображения все уменьшаться, а изображение получит монументальные масштабы. Из вышесказанного следует то, что изображение может нам указывать определенное место зрения, а с другой стороны, изображение на стене, от которой нельзя отойти, с тем чтобы получить его в поле зрения, должно учитывать то, что оно превышает поле зрения и повышает свой изобразительный масштаб. Вообще понятие монументального, понятие, может быть, и трудно раскрываемое, отчасти может быть вскрыто предыдущими рассуждениями, и отсюда будет понятно, почему стенопись, по большей части превышающая поле зрения, как бы принуждена быть монументальной, а станковая картина, не ограниченная в отношении расстояния при рассматривании, не только не получает монументального масштаба, но может и совсем потерять изобразительный масштаб. Только что сказанное не исключает и обратного: монументальности станковой картины и отсутствия масштаба в иной стенописи. Обратимся теперь к крайне зрительному рельефу, к изображению по методу обратной перспективы. Как здесь обстоит дело с изобразительным масштабом? Мне кажется, здесь можно утверждать следующее: движение боковых областей на нас или, вернее, в обхват нам ставит края изображения как бы в прошлое и помещает уже нас не перед изображением, а в самое изображение, а многорамочность делает то, что вхождение в глубь картины беспредельно и как бы по ступеням рамы идет к центру, причем масштаб все повышается и повышается и изображение как бы становится все монументальнее и монументальнее. Так что в подобном изображении мы имеем как бы монументально повышающийся изобразительный масштаб, начинаясь с напряженного он кончает напряженнейшим. Вот, собственно, все, что мне хотелось выяснить и что я смог выяснить в таком объеме доклада. 27 февраля 1929 года  Об оформлении города Нас могут обвинить в том, что мы подымаем отвлеченные вопросы, чисто теоретические, практически малозначащие; но дело в том, что наша республика тем и отличается, что, казалось бы, самые теоретические проблемы, применения которых можно [было бы] ожидать через долгие годы, уже сейчас становятся реальными в силу исключительной интенсивности общественной жизни и коллективного решения всех общественных проблем, в решении которых теория имеет большое значение. Вопрос, нами затрагиваемый, это вопрос об оформлении города, об изобразительности архитектуры и города в целом и тем самым об участии в этом деле и скульптуры и живописи. В связи с этим поднимаются такие вопросы, как синтез искусств и, связанный с первым, вопрос о реализме и, в частности, о реализме архитектуры. Всякое пространственное произведение искусства не относится к одной области чувств, а организует материал и для зрения, и для осязания, и для двигательных моментов восприятия, и в этом заложена возможность реализма в искусстве, возможность участия художественного произведения в нашей жизни и организации произведениями искусств нашего практического пространства. Картина имеет не только зрительную сторону, но и скульптурную, то есть раму, [благодаря] которой пространственное изображение на плоскости становится вещью, связывающейся с мебелью, с другими вещами, организующей стену, на которой она висит, комнату. И так каждое произведение пространственного искусства. Скульптурное произведение, объединяя в себе и круглую статую, и целую группу, и рельефы и заставляя переживать изображенные события, пьедесталом превращается в архитектуру, организующую наше практическое пространство. Немалую роль в этом будет играть цвет; отвлеченность цвета в скульптуре работает тоже на архитектурную сторону скульптуры. Все это повышает реализм произведения; я переживаю его не только как зрительное явление, но [и как] явление, подведомственное всем чувствам и тем самым могущее войти в нашу практическую жизнь, организовать пространство нашей общественной жизни. При таком понимании многогранности всякого произведения невольно должна ставиться проблема синтеза искусств и невольно должно намечаться решение, утверждающее, что синтез искусств повышает реализм искусства и даже что только в синтезе искусств, доступном цельно организованной общественной жизни, возможен наибольший реализм, какой только искусству доступен. Отдельная отрасль какого-либо искусства, стремясь к реализму, перенапрягает себя, приходит к иллюзионизму, к обману чувств и к отказу организовать окружающее пространство; таковы иллюзионистическая картина или статуя. Получается нарушение метода данного искусства и в то же время изъятие вещи из практического пространства. Всякое произведение работает и на познавательный момент, и на момент организации материала и тем [самым] нашего пространства. Живопись [работает] больше на познавательный [момент], архитектура — больше на организацию пространства организацией своего материала; но только в синтезе мы удовлетворяем вполне ту и другую сторону всякого искусства, и только синтез дает нам и образность, и изобразительность в узком смысле, и организацию нашего пространства, тем самым достигая действительного реализма, который по праву должен был бы именоваться социалистическим, так как только при социализме возможен такой органический подход к изобразительному искусству, требующий, кроме того, коллективных методов работы. Греческая классика и ценна главным образом таким решением. Естественно, что город в целом и должен быть таким синтетическим произведением, в котором все искусства, объединяясь, должны создать величайшее произведение искусств и в смысле образности, и в смысле организации нашей жизни, нашего практического пространства. И, конечно, некоторым водителем в этом деле должна быть архитектура. Но мы часто слышим ответ с этой стороны, что-де архитектура обойдется и без скульптуры и без живописи, она сама, одна будет решать образ города. Живопись и скульптура становятся бедными родственниками, просящими их как-нибудь устроить. Правильно ли это? Конечно, нет; и неправильность такого решения можно выяснить на самой архитектуре. То есть можно говорить о том, что в самой архитектуре, как наиболее разностороннем искусстве, есть скульптурные и живописные проблемы, и мы осмеливаемся думать, что эти проблемы почти никак не решаются, что у современных архитекторов в этом мало компетентности и им необходимо решать вопрос о скульптурном и живописном моменте в архитектуре и, конечно, с помощью специалистов этого дела, как происходит все в нашей стране. Мы имеем иногда как бы ответ на это. Предоставляются обильные места для скульптуры в иных проектах, но это еще не решение. Сама архитектура должна быть в какой-то мере скульптурной. Вот тут как раз возникает вопрос о реализме в архитектуре. Основными моментами этого реализма будут, с одной стороны, ответ на социально-функциональную сторону, с другой стороны — на образную, на идеологически-изобразительную. В нашей архитектуре мы встречаемся по большей части с грубым пониманием того и другого и с распадением этих двух моментов. Причем грубость особенно характерна для второго момента. Здания в виде человека, в виде серпа и молота и т. п. — это, конечно, не решение проблемы образа. Голый функционализм изживает себя, стремясь к образности; но часто образность решается заимствованным стилем: классика колонной должна ответить на оба вопроса, и на момент организации, и на момент изобразительный, но это несомненно паллиатив, именуемый стилизацией. Можно у классики учиться, можно использовать ее как культурное наследие, но нельзя утверждать, что мы найдем в дорической, ионической или коринфской колонне что-то для нас идеологически соответственное. Если мы, следовательно, ставим вопрос о реализме в архитектуре, то ясно, что функционализм один не даст нам его. Нужна образность, но образность, идеологически насыщенная сегодняшним мировоззрением. На это едва ли ответит колонна. Архитектура в своих пределах должна учесть момент массы и момент цвета. Мы можем утверждать, что пока эти вопросы в архитектуре не ставились конкретно, выражение и форма массы в деталях архитектуры — в углах, окнах, рамах, столбах, карнизах, дверях и т. п., да и в самой стене — не разрешались никак (или [разрешались] по аналогии с классикой) и вся масса бетона или другого чего была в этом смысле не оформлена. А ведь это и есть ее скульптурное оформление. Относительно организации архитектуры цветом как снаружи, так и внутри — то же самое, а ведь это и есть вопросы монументальной живописи. Вся ценность современной функционалистской архитектуры лежит в плане, здесь мы имеем большие достижения, но в других затрагиваемых здесь моментах она отстает определенно, ее можно обвинить в рационалистичности, и это выражается прежде всего в пренебрежении к скульптурному и живописному моментам архитектуры, и нам кажется, что, только работая над этими моментами (совместно со скульпторами и живописцами), архитектура достигнет реализма, обладающего своей образностью, соответствующей современному мировоззрению, и создаст свои детали, подобные колонне, используя культурное наследие, но не перетаскивая классику в социалистическую республику 20 века. Следовательно, наше мнение, что синтез искусств архитектуры, скульптуры и живописи и правильная организация коллективной работы должны нам ответить на задачу организации нашего города насыщением этого архитектурного целого идеологически современной и активной образностью. Но здесь может быть брошен справедливый упрек со стороны архитектуры скульпторам и живописцам. Многие скульпторы и живописцы, если не большинство, понимают изобразительность узко, как отображение зрительной действительности, и отвлеченную образность не признают за образность. А без этого признания они, конечно, не помощники архитектуре, где образность не решается оптической репродукцией действительности, да и хотя бы проблема орнамента не решается узким пониманием изобразительности. [Ок. 1930—1932 годов] 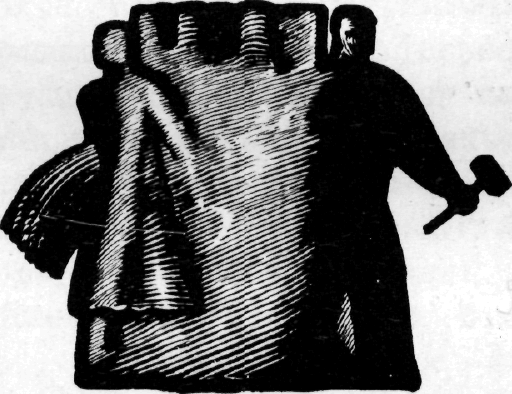 О сотрудничестве архитектора со скульптором и живописцем Я главным образом гравер, и хотя работал в живописи раньше и выставлялся, но последние годы живописью занимался мало. Поэтому предложение писать фрески для Музея охраны материнства и младенчества было для меня неожиданностью, но, с другой стороны, то, что мне всегда приходилось работать главным образом над композицией, и то, что бумага имеет много общего со стеной, а книга с архитектурой, делало эту работу в какой-то части продолжением моей обычной работы. Новым моментом был масштаб и цвет. Музей мне предложил расписывать вход. Темой росписи сперва наметили «Старый и новый быт», но потом в проработке темы «старый» быт отпал и тема выяснилась как показ роли Охматмлада в заботе о ребенке и освобождении матери для работы и учебы. Над входом изображалась сестра, принимающая ребят от работницы и колхозницы, а на обеих стенах развивались темы: на левой — города, а на правой — современной деревни. Кроме того, панель, решенная сграффито, рассказывала сцены прогулки летом и зимой. Отвечая на тему, я старался рассказывать возможно проще, причем отнюдь не натуралистически (чего бы, по-моему, стена не выдержала), а используя главным образом плоскость стены и располагая иногда фигуры на отвлеченном фоне. В характеристике фигур я пытался (кое-где мне это удалось) соединить типичное с идеальным. Сама тема: дети и забота и внимание к ним женщин — давала прекрасные мотивы, а то, что эти заботы организованы социалистическим государством, следовательно, принципиальные и не случайные, и то, что изображение входило в архитектуру, требовало поэтического, проникнутого ритмом изложения темы, конечно, при большой простоте. Делать фигуру в полтора человеческих роста по облику частной не хотелось, хотелось дать ей и типичность и некоторое простое изящество и совершенство. Словом — излагать тему с подъемом, как бы торжественно, но ни в коем случае не впадая в стилизацию и ложный монументализм (удалось ли это? — думаю, отчасти да). В цвете мне хотелось дать локальную характеристику вещи, не вводить общего тона, но добиться связи этих цветов, так, чтобы они совместно делали живопись, причем хотелось сделать общее красочное впечатление радостным и ярким. Между прочим, надо отдать справедливость, что Охматмлад относился к работе все время с большой культурностью, следя за правильностью изложения темы, но ни в коем случае не насилуя художественного подхода и не требуя приближения изображения к натуралистической фотографичности, в чем многие заказчики сейчас грешат. Недочетом работы было то, что на эскиз пошел только месяц, так как сперва спешили и хотели всю работу сделать в два месяца, чтобы поспеть к октябрю, а на этой работе четко выяснилось, что во фреске эскиз — главное. Что-либо существенно менять или дополнять невозможно во фресковой живописи. Я очень обязан Николаю Михайловичу Чернышеву, который был моим ментором и все время очень заботливо учил меня и руководил технической стороной работы. Писал я почти все акварельным способом по сырому, по сухому почти ничего не добавлял. То, что меня увлекало, и то, что, мне кажется, и более удалось,— это ритмика стен и цельность всего помещения с учетом лестницы и потолка. Так как помещение небольшое, необходимо было учесть и условия бокового зрения. Фигура должна была смотреться не только тогда, когда стоишь перед ней, но и справа и слева, имея данный кусок стены в сильном ракурсе; отсюда получалась своеобразная жизнь фигуры: она все время менялась и при учете всех точек зрения давала большое богатство, что делало самую работу чрезвычайно увлекательной и, в результате, позволяло смотреть стену с разных точек зрения всю целиком. Между прочим, живопись очень сильно расширила узкое помещение. Когда я рисовал и писал данные фрески, так как это было проходное место, все время двигался народ — рабочие, занятые тут же, в музее, маляры, столяры, дворники, слесаря, служащие, врачи, сестры и жильцы соседних квартир, и все время приходилось выслушивать рецензии, и одно можно сказать, что никто равнодушно не относился, всех задевало изображение на стене. Мне кажется, что стена, благодаря масштабу и непосредственной связи со зрителем, активнее действует, чем станковая картина. У меня у самого к фигурам, которые я написал, было отношение не совсем как к моему произведению. Они приобретали как бы самостоятельность, благодаря росту и конкретности стены. Писал я на стене в первый раз, но, надеюсь, не в последний. Так как трудно найти другой метод, позволяющий так разносторонне и в то ж время просто излагать тему и так восхитительно подводящий к материалу стены. Стиль социалистического реализма наиболее четко определяется, как мне кажется, в стремлении к монументальности и как бы общественности самого изображения, что в полной мере доступно только социалистическому городу. Хотелось бы, чтобы эта наша работа была хотя бы небольшим шагом вперед в разработке этих проблем. Февраль 1933 года Каковы своеобразные стороны монументальной живописи Каковы своеобразные стороны монументальной живописи? Прежде всего, более четкое и определенное участие ее в общественной жизни. Являясь частью художественного комплекса, стенная роспись через архитектуру носит определенную функцию в быту, оформляет его и тем самым совместно с другими искусствами организует нашу жизнь. Правда, велика и роль станковой живописи, но она является как бы партизанской формой агитации. Идеологическое и воспитательное воздействие станковой картины более ограничено. Будучи подвижной и выделенной из окружающего, она в малой степени оформляет пространство и не обусловливает организованность всего городского архитектурного комплекса. В отличие от станковой картины, стенная живопись тем и ценна, что должна входить непосредственно в жизнь человека, в ежедневную жизнь улицы, площадей и внутренних пространств. В связи с этим стоит вопрос об отношении живописи к архитектуре, вопрос об образности всего архитектурного произведения. И надо думать, что здесь фреска может внести свою долю. Но для этого необходимо решить существенный вопрос: как живопись входит в архитектуру. Ее следует вводить с учетом всего архитектурного комплекса, она должна решаться в плане общей синтетической формы, а не путем выгораживания на стенах отдельных плоскостей для картины, плоскостей, часто не зависимых от архитектуры и не считающихся с пластикой стены (к чему сейчас некоторые тенденции намечаются). Стенная роспись (включая сюда окраску, орнамент и собственно изображение), оставаясь живописью и тем самым оформлением архитектурных плоскостей, должна с учетом стиля участвовать в общем архитектурном ритме здания и делать его еще более детальным, конкретным и образным. Другая существенная черта стенной живописи — это ее ритмичность. Стенная живопись, участвуя и в функциональной и в образно-ритмической стороне архитектурного здания, невольно должна включаться в ритмику общей композиции ритмикой движения фигур и их пропорций. По-видимому, здесь, именно на стене, в архитектуре, художник, развертывая монументальные композиции, сможет дать не только правду нашей действительности, но и из самих ритмов общественной жизни, из городских ритмов архитектурных стен почерпнуть действительно художественные принципы ритмической организации, в свою очередь влияющей на общество, на гражданина нашего Союза. В связи с этим возникает интереснейшая проблема нашего искусства — проблема орнамента, при этом не как украшения, а как части ритма, организующего нашу жизнь (и, надо сказать, этот вопрос у нас в загоне). Стенная живопись в широком понимании и, в частности, вместе с графикой должна решать эту проблему, а в связи с монументальной живописью нужно говорить и о монументальной графике. Апрель 1934 года 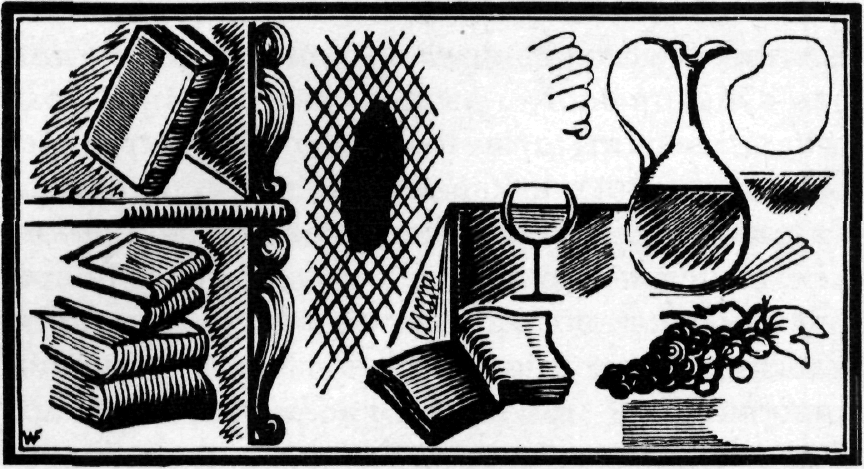 Предметность, масштабность, реализм Архитектура — изобразительна. После недавней принципиальной «неизобразительности» живописи, скульптуры и архитектуры мы это поняли. На архитектуре лежит высокая задача отображения идеи социализма, идеи коммунизма; следовательно, архитектура образна. Правда, не в узком смысле этого слова, как воспроизведение натуры, но ведь и живопись образна не только в порядке аналогии с действительностью, но и как музыкальная, ритмически строящаяся форма. Было бы полезно как раз перед архитектурой поставить во всей широте вопрос о реализме, и это принесло бы пользу не только архитектуре, но и другим не узко изобразительным искусствам. Конструктивизм в архитектуре с его функционализмом можно было бы сравнить с натурализмом в других областях искусства, пытавшимся точно и механически воспроизвести действительность. Несомненно, что при всяческом учете функций здания забывался человек. Человек как образ отсутствовал в архитектуре. Можно упрекнуть подобную архитектуру в двух недостатках: в полной скульптурной невыразительности, полном игнорировании выразительности всей формы, ее деталей по массе и, во-вторых, в отсутствии масштабности, в чем, собственно, и выражалась бесчеловечность подобной архитектуры. За последнее время мы наблюдаем в архитектуре бурное движение к пластичности и масштабности, но на этом пути мы встречаемся с вопросом о культурном наследии и об использовании его. В чем такая обаятельная сила колонны, почему мы наблюдаем сейчас такое распространение этого архитектурного принципа? По-видимому, как раз в этой черте сегодняшнего архитектурного дня мы видим борьбу архитектуры за изобразительность, через колонну архитектурное произведение получает масштаб. Колонна — это предметное начало, которым строится архитектурное пространство. Безобразность стиля модерн, безобразность конструктивизма лежит в отсутствии предметности в архитектуре и, тем самым, и масштабности, иногда принципиальной, иногда случайной. Но решается ли вопрос колонной? Вот тут можно было бы как раз привести критерий реализма. Если с колонной приходит в архитектуру предметность, то она, придавая архитектуре масштабность, дает ее ведь в отношении человека и для человека. Конечно, учеба у прошлого не отпадает ни в коем случае, но трудно признать за воспроизведением различных ордеров смысл реализма. Поэтому мне кажется, что самой насущной задачей архитектуры является искание своеобразной современной предметности, которая имела бы черты реализма, и через это завоевание масштабности, ритмически развитой в целом здании. Если мы, с одной стороны, имеем дело с опасностью беспредметной архитектуры, то предметность сама по себе вопроса еще не решает. Безмасштабность функционалистской архитектуры, по-видимому, сознательна; на примере хотя бы храма Спасителя мы имеем пример безмасштабности невольной, и эта безмасштабность (он казался и большим, как гора, и малым, как чернильница) объясняется неорганическим, механическим использованием колонн, архитектурных элементов. Многие современные проекты напоминают своим отношением к масштабу это неудачное здание. У греков колонна ритмически входила во все здание и сама была внутренне сложной по содержанию, многообразной формой. Конечно, борьба за реализм в архитектуре труднее, чем в каком-либо другом искусстве, и поэтому все попытки, делающиеся в этом направлении, должны внимательно изучаться. И в этом смысле интересны такие здания, как дом Наркомвнудела арх[итектора] Фомина, пытающегося уйти от воспроизведения исторических стилей, и, с другой стороны, здание Корбюзье, в котором масштабность устанавливается без использования колонн. Ноябрь 1934 года 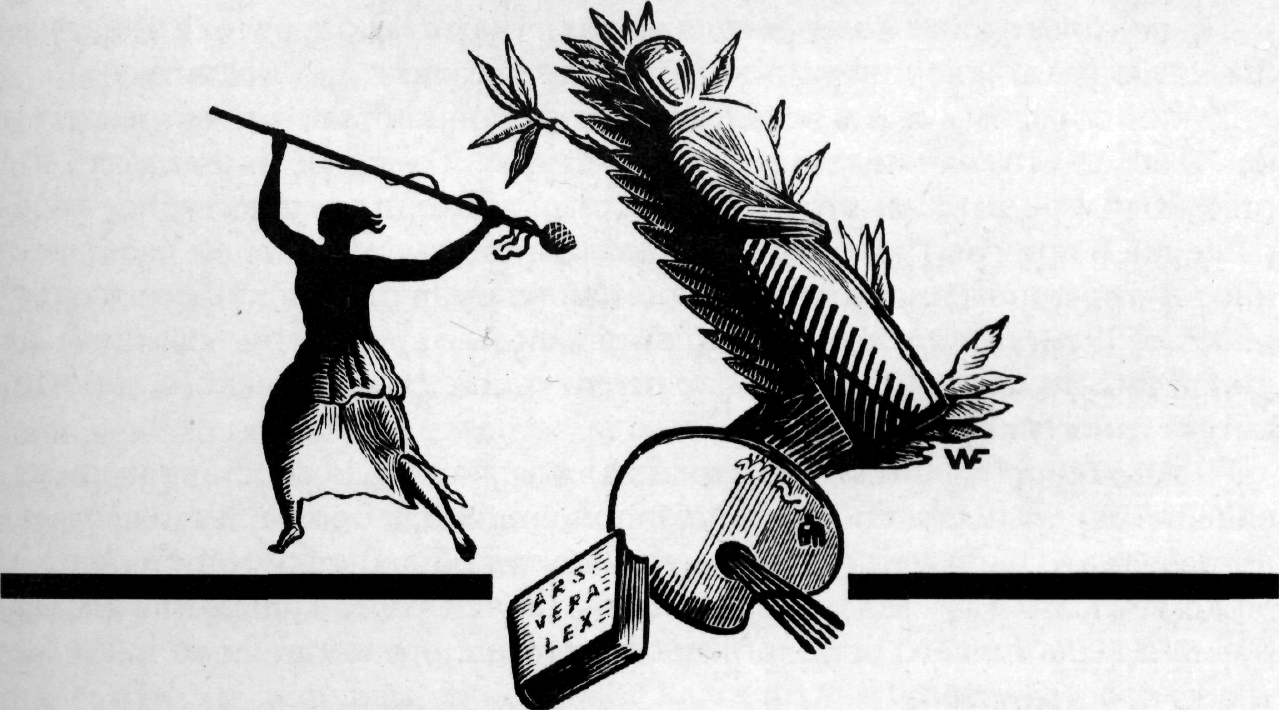 Поиски синтеза Предстоят съезды архитекторов, живописцев и скульпторов. На них будет решаться много интереснейших вопросов, и знаменательно то, что возникает и такой вопрос, как синтез искусств, который не решается в пределах одного цеха и требует более расширенного общения мастеров. Все это придает нам чувство гордости, что только у нас это возможно, и это же возлагает на нас колоссальную ответственность. Когда мы ставим вопрос о синтезе искусств, невольно затрагивается и вопрос о реализме художественного произведения. По-видимому, только синтез искусств дает нам наивысший, доступный художественному произведению реализм, не доступный отдельной дисциплине. Но так как стремление к реализму в искусстве органично и, как стремление к чувственной ценности, всегда страстно, то как раз по линии реализма и синтеза мы встречаемся со многими ложными искажениями метода искусства. Например, мы встречаемся в искусстве со стремлением отдельной художественной дисциплиной ответить на всю полноту восприятия реального, и мы тогда получаем как бы панживопись, панскульптуру и панархитектуру и, с другой стороны, встречаемся с ложным синтезом, когда искусства просто смешиваются, теряя свою специфику, теряя оригинальность воздействия. Подобный ложный синтез будет по большей части расширением панживописи и методы чисто зрительного восприятия навязывает и всем остальным искусствам (панорама). Всякая станковая картина уже не только живопись, но и скульптура, в какой-то мере и архитектура. Всякая картина имеет раму и задачей всякой рамы, внутрь ограничивая изобразительную плоскость, дать возможность построить на ней пространственный мир с его глубиной, а наружу этот мир оформить как вещь другого, нашего практического пространства. Рама позволяет нам углубиться в живописное произведение, отвлекаясь от всего окружающего, и рама же делает картину предметом нашего архитектурного пространства, делает ее мебелью и тем самым связывает ее со всеми окружающими вещами и с нами самими не только как с созерцателями, но и [как с] практически действенными людьми, живущими в конкретном бытовом пространстве. Таким образом, уже в отдельной станковой картине мы встречаемся как бы с синтезом живописи и скульптуры. То же можно сказать и о статуе, там роль рамы играет пьедестал, он вводит скульптурное изображение в архитектурное пространство и опять-таки, делая изображение внутрь пространственным миром, наружу, в отношении всего окружающего, делает ее вещью нашей комнаты, предметом, стоящим на улице вместе с фонарями, или архитектурной деталью какого-либо архитектурного комплекса. Нужно говорить о том, что в сущности всякое художественное произведение имеет перед собой две задачи: с одной стороны, художественно-познавательную, результатом чего будет образ, с другой стороны, и даже тем самым — задачу организации чувственно-конкретного материала в вещь нашего бытового пространства, организующую наше бытовое пространство. В этом смысле архитектура, например, будет по преимуществу искусством, организующим наше «жилое» пространство ритмически созданными вещами, а живопись по преимуществу будет занята образом, но лишать архитектуру образности, а станковую картину внешней вещности было бы совершенно неправильно. И архитектура должна быть образна, и картина должна быть как бы архитектурной вещью, и только тогда то и другое произведение охватит человека в его полноте и разносторонности, ответит ему и как мыслящему и созерцающему, и как практически действующему и тем самым достигнет наибольшего реализма, заняв в конкретном жизненном пространстве конкретное место. Но мне на это могут указать, что ведь есть картины без рамы, например икона, и есть скульптура без пьедестала, например мелкая японская и вообще восточная и др[угие], или, например, детская игрушка, кукла. Конечно, и край доски в иконе — тоже в каком-то смысле скульптурная рама, но, кроме того, вещность художественного произведения не ограничивается только рамой, но входит внутрь изображения, создавая как бы двусторонность изображения. Например, с одной стороны, это великолепный цвет, интересная сложная фактура красочной поверхности, с другой стороны, это воздух, небо, глубина. В скульптуре часто сама поверхность, ее цельность, напряжение и замкнутость, по большей части соединяющаяся с неподвижностью статуи, придает характер вещи изображению и тем самым вводит изображение в наше бытовое пространство до того, что дети, а в древности и не только дети, играют в подобную скульптуру. Но мы часто встречаемся с другим, когда рама у картины есть и у скульптуры пьедестал тоже налицо, но они взяты просто из-за обычая, так делают все, поэтому и я так же делаю, но организующая роль того и другого отсутствует, иногда же просто нарушается рама и пьедестал, и тогда изобразительный мир вваливается в наше пространство и вступает с ним в конфликт. Это бывает тогда, когда художник требует от произведения только образности и учитывает зрителя только как зрителя, а не как действующего человека. Ведь не с Пушкиным мы гуляем по Тверскому бульвару и не с Гоголем по Пречистенскому, это памятники, изображения того и другого, работающие и как архитектурные оформления бульвара. А я помню один проект памятника Гоголя, где Гоголь сидел на скамеечке, стоявшей на холме, а от зрителя к Гоголю вела дорожка. Тут стремление дать наивысший реализм, свести меня непосредственно с Гоголем и дать мне возможность с ним побеседовать. Но ведь явно это кончается конфузом и может существовать только некоторое время как некоторый обман. Подобную скульптуру мы встречаем на кладбищах Западной Европы (Генуя), подобную скульптуру мы встречаем и у некоторых наших современных скульпторов, особенно когда они делают группы (Менделевич, Жуков). Это же мы встречаем в живописи у целого ряда живописцев западных и наших так называемого академического толка. Это, в сущности, и есть попытка ответить на высший реализм отдельной художественной дисциплиной, доведя ее до абсурда. По-видимому, всякая художественная дисциплина ни в каком произведении не может быть ограничена собой, и поэтому наибольшего реализма искусство достигает, соединяя все пространственные искусства в синтезе, но тем самым не нарушая специфики каждой дисциплины, а давая ей возможность в своей области дать наибольшее. Но, следовательно, основным условием синтеза искусств будет то, что и сама архитектура должна быть образна и должна ответить на моменты массы, поверхности, цвета, учесть их художественный смысл, то есть быть в какой-то мере и скульптурой, и живописью, и собственно живопись должна учитывать вещность живописного произведения, и скульптура тоже не должна останавливаться только на изобразительном моменте, но оформляться как ритмическая архитектурная форма. Иначе синтеза не может быть. Примеры такого не соединения скульптуры и архитектуры мы, к сожалению, имеем в современном опыте, хотя бы здание Ленинской библиотеки. Само здание почти никак не моделирует массу, здание по массе отвлеченно и, конечно, не соединяется с вершащей стену «ренессансной» скульптурой; здесь скорей могло бы быть соединение с живописью или рельефом. С другой стороны, скульптор, добросовестно лепивший бюсты писателей, попытался в них остаться только скульптором, не учитывая эти бюсты как вещи архитектурного пространства, как вещи улицы, и получились отрубленные головы великих людей, повешенные на стене, или в лучшем случае — великие писатели, высовывающиеся из стены, заглядывающие на тротуар; это тоже вольная или невольная попытка побеседовать непосредственно с писателем. Ссылка на дверь Гиберти дела, конечно, не спасает, так как там это на богато развитом рельефе, а здесь на плоской стене, выталкивающей бюсты на улицу. Тема, поднятая здесь, не исчерпывает, конечно, всей полноты синтеза искусств. Одним из самых важных вопросов дальше должен быть вопрос о роли стиля архитектуры, скульптуры и живописи в синтезе искусств, но мне кажется, что затронутая здесь тема самая основная и первая, и, только решив ее, мы можем прийти к действительному сотрудничеству наших пространственных искусств. 13 декабря 1934 года 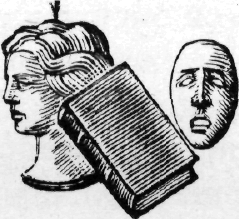  О синтезе искусств 1) Общее вступление. Постановка вопроса 2) О книге как о синтезе искусств 3) О синтезе и о театре 4) Об архитектуре, живописи и скульптуре Искусство нашего Союза совершенно органически и жизненно подошло к синтезу искусств, к совместной работе архитектора, скульптора и живописца. Это не прихоть, не какая-либо утонченность художественных стремлений, это прямая практическая задача, явившаяся необходимо, так как искусство нашего Союза прежде всего имеет своей задачей организовать нашу жизнь и, работая над этой задачей и пытаясь охватить всю разносторонность человека как воспринимающего и как действующего, как созерцающего и мыслящего и как практически активного, [оно] невольно пришло к объединению искусств в художественный комплекс, то есть к синтезу искусств. Этот вопрос ставится и на конференции архитекторов с привлечением туда живописцев и скульпторов; теоретическое выяснение методов совместной работы, пересмотр методов каждого из искусств будет, по-видимому, темой совместного обсуждения; здесь необходимо многое выяснить, чтобы облегчить подход к такой большой задаче. Все это невольно делает нас гордыми, и это естественно, так как только в органические эпохи истории, в моменты высокого развития искусства, в такие, как 4 и 5 века Греции или итальянский Ренессанс, мы встречаемся с действительным синтезом искусств. Но все это и возлагает на нас громадную ответственность, и всякий художник невольно еще более критически должен подойти и к своей практике, и к методам совместной работы, так как тут, как и всюду, возможны ложные уклоны и решения. Между прочим, когда сегодня так громко идет всюду разговор о синтезе искусств в связи с архитектурой, скульптурой и живописью, невольно вспоминается другая область, как бы менее монументальная, которая уже давно работала над этой проблемой, может быть, не давая ей настоящего названия. Это область книги. Книга может быть понята как изображение литературного произведения шрифтом, иллюстрацией, макетом, переплетом и, следовательно, объединяет в себе и слово и целый ряд различного характера изображений на плоскости, от отвлеченных, как шрифт, до конкретных, как иллюстрация, которая к тому же может быть графичной и может быть цветной и живописной, от плоскостной орнаментации, как шрифт или форзац, до скульптурного решения переплета с его округлостью и массивностью. В книге мы встречаем отдельное изображение на странице, подобное станковой картине, и, с другой стороны, организацию страниц, их последовательность, весь характер фальцовки, которую мы можем в какой-то мере назвать книжной архитектурой. Когда эти вопросы решались, мы имели различные тенденции: с одной стороны, наследство, оставшееся от прошлого, от книжного искусства конца 19 века и начала 20 века, когда книга рассматривалась как так называемое прикладное искусство и на художника книги смотрели как на украшателя, входящего туда не по существу макета, а вносящего изобразительность, не затрагивая шрифта и букв. Шрифт не почитался изобразительным, а в лучшем случае имел декоративное значение. С другой стороны, мы имеем противоположную конструктивистскую тенденцию, пытавшуюся организатора книги понимать как инженера, учитывающего всю функциональную сложность книги и считавшего, что на тему книги, на ее идеологию необходимо отвечать только техническим совершенством. Изобразительность отметалась совершенно и заменялась фотографией. Но тут подтвердилась сентенция, что пойдешь налево, придешь направо. Левизна строгого инженеризма в искусстве, четкого ответа на функцию невольно соединялась в конструктивизме с декоративностью, имевшей аналогию с прикладничеством в старой книге. Сейчас мы имеем большой путь, проделанный советской книгой как искусством; несомненно, что там многое еще нужно проверять и пересматривать, но некоторые основные методические установки могут считаться выясненными. Совершенно дискредитирован чисто украшательский подход художника к книге. Книга не только в иллюстрации, но и в шрифте, и в макете, форзаце и переплете должна быть идеологична, и в этом разные методы шрифтового изображения, весь ритм книги, характер ее формы также должны найти художественно-смысловое выражение, должны быть художественно тенденциозны, как и иллюстрация. С другой стороны, замена художественного произведения совершенным техническим произведением и изгнание изображения из книги также потерпели крах, и сейчас мы пришли к тому, что все моменты книжной формы могут и должны быть по-разному, но изобразительны. И иллюстрации, и шрифт, и макет «иллюстрируют» литературное произведение, и в то же время все это и по существу отвечает на функцию чтения, на ясность рассказа, на требование гигиены восприятия и т. п. То, что происходило в книжной практике и что сейчас невольно вспоминается, несомненно ставило перед этой областью искусств основные проблемы синтеза, которые, по-видимому, тут и намечаются, как следующие: каждый из моментов книги имеет свой специфический изобразительный метод, но все они, от иллюстрации до макета, не распадаются на технические и художественные, а все идеологичны и изобразительны. Кроме того, в книге мы уже наталкиваемся на одни из основных моментов синтетического произведения. Книга — это вещь, «кирпичик», лежащий у меня на столе, и книга — это изображенный мир. Мы держим книгу в руках, обнимая ее пальцами и касаясь рукой обеих корок переплета, а между этими корками заключен месяц чтения и годы переживаемой нами жизни. Книга — и мир, и предмет; и скульптурные, архитектурные, графические и живописные моменты соединяются, с тем чтобы дать этот сложный синтез и тем самым ввести сложный пространственный и временной мир литературного произведения, ввести его в наше комнатное пространство как вещь этого пространства, как оформленную шкатулку, как кирпич. Слово наивысшего своего реализма достигает в устах оратора, оратор является тогда его носителем, его внешней формой, книга по-своему делает то же самое. Я невольно заболтался о книге, так как это искусство мне ближе, но, конечно, и в других областях художественного творчества мы можем делать очень интересные наблюдения, которые нам могут помочь в решении синтеза искусств. Подходя к сцене, к театру, невольно задаешь себе вопрос: что здесь основное, и отвечаешь — актер. Конечно, можно по-разному понимать театральное изображение. Можно представлять себе задачей театра заставить зрителя совершенно забыть об актере, о сцене, о декорациях, видеть на сцене кусок иллюзорного пространства и в нем какую-то жизнь, в которую я неведомыми путями вторгся. Относительно своих декораций я, лично, выслушивал упреки в том, что они литературны, что они интерпретируют шекспировскую тему, а не остаются замкнутыми зрительными кусками действительности. Я, конечно, не согласен с подобным мнением; не касаясь даже моих декораций, мне кажется, что как бы я ни был увлечен пьесой и игрой актера, будучи им растроган, смеясь и проливая слезы, я тем не менее буду помнить, что это изображение и что это актер, а это — декорации. И поэтому мои чувства будут приобретать цену художественного восприятия; в силу этого и можно сказать, что главным является актер, так как он носитель слова и ему по преимуществу принадлежит движение; в случае иллюзорного изображения главным уже будет не актер, а зрительный кусок жизни, заключенный в портал, в котором актер только деталь. Приняв для театра иллюзорный метод изображения, мы наталкиваемся на то, что все искусства, пришедшие на сцену, чтобы объединенно изображать пьесу, теряют свою специфику: живопись сливается со скульптурой, пространство действительное — с иллюзорным, актер равняется вещам, деревьям и архитектуре, как человек в настоящем лесу; таким образом, все его средства: тело, голос, жест, мимика — уже не являются специфическими средствами изображения, поднятыми на подмостки. Кроме того, как бы мы ни решали вопрос об оформлении на сцене, для нас обязательно и оформить границу между зрителем и сценой, между изображенным пространством и пространством моим; правда, это зрительный зал, это праздничное место, но тем не менее это мое бытовое пространство и, оформляя, давая спектаклю раму, я невольно должен буду нарушить безусловную иллюзорность сценического пространства. Следовательно, можно говорить о том, что такое иллюзионистическое понимание театра приводит нас к слиянию искусств, где их специфика теряется, где они теряют свои разнообразные методы, сливаясь в иллюзорный комок, пытающийся заменить действительность и, конечно, не заменяющий. Такой подход можно взять как пример ложного синтеза, который не только в театре имеет место. Если же понимать театр как синтез различных искусств, совместно разными средствами изображающих одну тему, среди которых актерское искусство является главным, то мы наталкиваемся на очень интересные черты театрального изображения. Актер, изображая что-либо, все же актер, и сцена, изображая что-либо, все же сцена, и следовательно, изображая что-либо как декоратор, я должен дать и образ и в то же время четкую сценическую вещь. Например, занавес может нести изображение дома, ширма — изображение дерева и т. п., и тем не менее как изображение это может быть выразительным и в то же время как бы представлять собою архитектурную деталь сцены, быть сценической вещью, помогающей актеру двигаться и жить на сцене; получается как бы двоякое существование изображений на сцене, причем через то, что это занавес, ширма, задник, падуга или что-либо подобное, все изображения соединяются друг с другом и с актером как вещи сцены. Здесь, в театре наталкиваешься на действующий закон обрамления, рамы. Картина в сущности не только живопись, но и вещь нашего бытового пространства, через р?му она скульптурна и становится мебелью, и через раму она соединяется с другими вещами внешними, имея в то же время возможность развивать глубокое и содержательное изображение. Таким образом, и в театре, по-видимому, могут сотрудничать различные искусства, не теряя своей специфики и через своеобразное обрамление становясь сценическими вещами и подчиняясь, таким образом, актеру как главному. Но это театр и книга, и, конечно, имеющийся там синтез искусств очень важен и интересен, но если мы говорим сейчас о синтезе на основе архитектуры, то естественно, что это еще более захватывающий вопрос, так как, может быть, только в синтезе искусств на основе архитектуры мы достигаем наибольшего охвата человека искусством, ведь архитектура это то искусство, которое оформляет наше бытовое пространство, мы не только созерцаем архитектуру, но мы ею окружены, она организует нас; и если живопись и скульптура со своим сюжетным и идеологическим содержанием получают через архитектуру твердое место в бытовом пространстве, то это значит, что они вошли в мою жизнь не только как идея, а и как вещь. На основе такого синтетического искусства можем мы преобразовать наше пространство и оформить нашу жизнь ритмически и красиво. И конечно, совершенно естественно возникает у нас чувство гордости; когда мы подходим к этой проблеме, то мы знаем, что это не легко достижимо, что в этом направлении нужно работать и работать. У отдельных художественных дисциплин мы наблюдаем часто своеобразный шовинизм, как бы ложный патриотизм, живопись и скульптура являются тогда как бы слепками с действительности и ни в какой мере не выявляют себя как вещи, ритмически организующие материал. А архитектура в таком понимании будет считать себя искусством неизобразительным, почти инженерией. [...] В этой статье, в начале мы вспоминали конструктивизм в книге, нечто подобное мы знаем и в архитектуре; чисто функциональная архитектура — это тоже своеобразный шовинизм отдельной дисциплины, это обратное крайнему иллюзионизму живописи: никаких художественных иллюзий, никакого идеологического понимания формы, высокая техника — это все. Партия и страна поставили перед архитектурой задачу выразить архитектурой идею социализма, передать ритмическими монументальными формами нашу эпоху, строить красиво и разнообразно и тем самым поставили перед архитектурой проблему образа и проблему синтеза искусств. Так, имея перед собой эту трудную задачу, архитектура должна была выйти из замкнутости отдельной дисциплины, вспомнить свои цветовые возможности, обратиться к моделировке массы, к деталям массы и поверхности, то есть стать в какой-то мере живописной и скульптурной, и естественно дальнейшее привлечение живописи и скульптуры как специфически изобразительных дисциплин. Но всякая ли живопись, всякая ли скульптура может синтетически сочетаться с архитектурой. По-видимому, нет. Гете в «Пропилеях» намечает ложные уклоны искусства и, разбирая их, располагает в две противоположные группы: одна — это подражание природе, характер и выделанность, другая, ей противоположная,— фантазия, композиционность и общность: и Гете утверждает, что эти качества, отдельно существующие, составляют только частную манеру художника и, только соединяясь, дают высокое искусство. Подражательность, соединяясь с фантазией, дает художественную правду; характер, соединяясь с композиционностью, дает красоту, и выделанность в связи с общностью дают совершенство выполнения. Не вникая в детали этих художественных качеств, мы можем сказать, что отдельно эти группы представляют собой одна — натурализм, другая — стилизаторскую манерную тенденцию в искусстве. И, по-видимому, ясно, что в синтез искусств не может войти первая и не должно входить второе. Мы жаждем большого стиля. Но во всяком случае в рассуждениях Гете выясняется одно, что всякое живописное и скульптурное произведение должно быть и образом, и ритмически построенной вещью. Не считаясь с этим принципом, мы невольно попадаем в конфликт с образом. Так, например, медальоны с головами писателей на стене Ленинской библиотеки, добросовестно и со сходством вылепленные скульптором, совершенно не учитывались им как архитектурная ритмическая вещь уличного пространства. [...] Другой очень важный момент синтеза искусств — это вопрос о стиле. Нужно различать стилизацию от стиля. Для нас привычно относительно изображения с натуры ставить вопрос о реализме и гораздо труднее ставить этот же вопрос относительно ритмики художественного произведения, легко ставить этот вопрос о картине и очень трудно — об архитектуре [...] Картина — это образ и в то же время через раму и материал это ритмически оформленная вещь нашего пространства. Скульптура — это образ, но через пьедестал, через материал — архитектурная вещь нашего городского или комнатного пространства; и, таким образом, можно прийти к выводу, что каждое искусство недолжно быть ограничено собой, а путем обрамления, путем внешнего оформления [должно] переходить в другое искусство, то есть картина должна быть скульптурна, скульптура — архитектурна, архитектура же — живописна и скульптурна. По-видимому, такой вопрос возможен и даже необходим. Мне даже представляется, что уже в постановке вопроса о социалистическом реализме и сейчас намечается вопрос о реализме ритма и красоты; ведь стремясь к красоте, мы не должны обманываться красивостью, мы должны добиваться содержательной красоты, вытекающей из жизненных тенденций нашего сегодняшнего дня. [Между 13—24 декабря 1934 года] 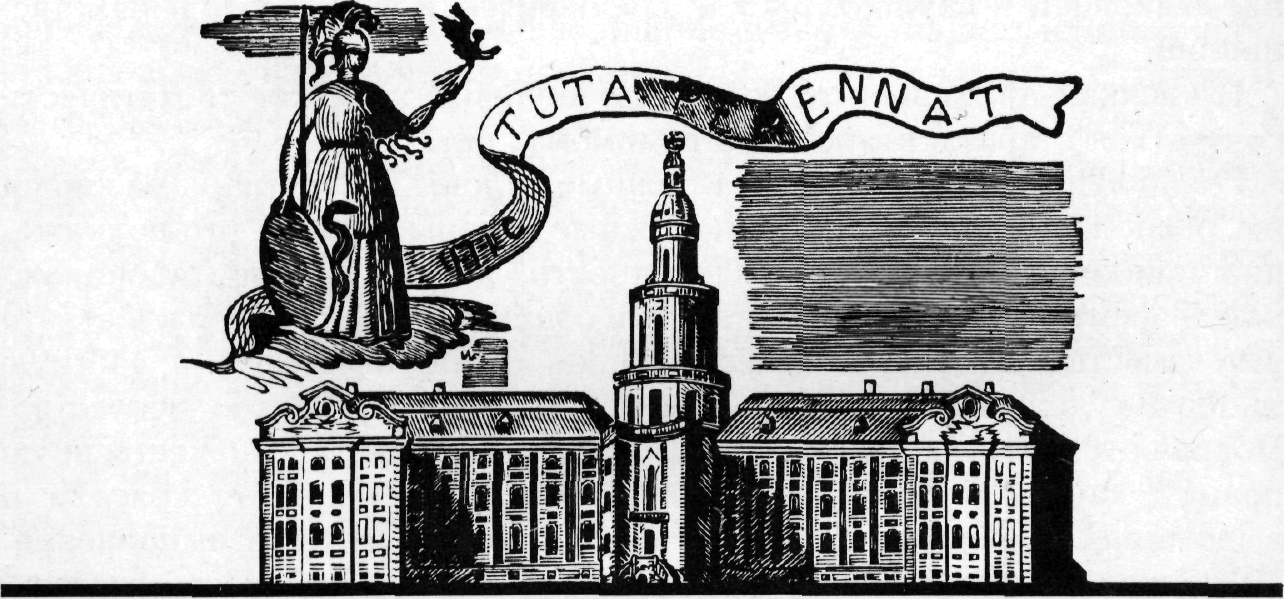 Живопись и архитектура В одной из своих статей в «Пропилеях» Гете делит художественные уклоны на две группы. Одну Гете определяет как «серьезную группу», другую как «игру». Первая группа характерна своей склонностью к подражанию (очевидно, натуре), стремлением передать характер изображаемого и, наконец, пунктуальностью в выполнении. Вторая группа противопоставляется первой. К ней относятся художники-композиционисты. Гете определяет художников этого толка термином «ундулисты» — от латинского слова «волна», и «скицистами», то есть не доводящими общее до деталей. Направление каждой из этих групп, взятое отдельно, является частной манерой художника. Большое же искусство, по мнению Гете, возникает только тогда, когда все эти стороны творчества синтезируются. По-видимому, здесь одна группа выражает натурализм, другая - стилизаторство. Взятые отдельно, они, и по нашему мнению, являются только отдельными художественными уклонами. Соединяясь, они приводят, в случае сочетания подражания природе с фантазией, к художественной правде; в случае сочетания характерности изображаемого с композиционистской тенденцией — к красоте. Сочетание же точности, пунктуальности исполнения «серьезной группы» со свежестью наброска скициста приводит, как говорит Гете, к совершенству. Это, конечно, только схема, но схема весьма существенная при анализе искусства. Всякое художественное произведение имеет две одновременно выполняемые задачи: это, с одной стороны, познавательная задача образа, с другой (так как образ дается в конкретном материале) — задача ритмической организации материала в определенную вещь. Все искусства отвечают на эти обе задачи. Сущностью станковой живописи главным образом является образ, архитектуры — ритмическая организация материала. Но архитектура имеет и образную задачу, а живопись — чисто ритмическую задачу организации материала. Поэтому, говоря о синтезе, мы не умаляем тем самым отдельные художественные дисциплины. Они сочетаются именно потому, что, имея общую задачу, по-разному ее решают. Когда архитектура хочет быть только организацией материала, а живопись стремится быть только образной, они не могут объединиться и ни к какому синтезу не способны. Натуралистическая картина, натуралистическая скульптура и конструктивистская архитектура, которая не имеет тела, которая безразлична к массе и к цвету, не могут, конечно, быть соединены, они не способны к синтезу. Каждое искусство может быть реалистическим, но синтез искусств дает живописи возможность быть реалистической не только в смысле образа, но и в смысле ритмического оформления нашей жизни. Ведь при этом изображение занимает определенное место, определенное положение в том пространстве, в котором человек живет. Очень важно поэтому ставить вопрос о реализме не только с точки зрения образа, но и с точки зрения ритма. Надо говорить также о реализме архитектуры. Это существенно потому, что иначе мы неизбежно впадаем в декоративизм при включении изобразительных элементов в архитектуру. Можно говорить о более глубокой или более плоскостной живописи, но это должна быть всегда живопись реалистическая. Если под декоративностью понимать условность и задачу украшения, то единственным критерием остается произвол. Поэтому мы должны и оформление самого пространства цветом также рассматривать как определенную образную форму. Очевидно, при этом нужно исходить из задач всего ансамбля: цвет должен пониматься образно, как определенный реалистический элемент формы. Мы должны добиться такой содержательности цвета, какую встречаем в греческой краснофигурной вазе или в цвете помпейской фрески. В архитектуре искание такого цвета очень существенно, и это один из путей связи архитектуры и живописи. Сейчас архитекторы увлекаются цветом различных естественных материалов. В каждом отдельном случае при этом надо установить — создает ли цвет действительно поверхность, характеризующую здание? Ведь и этот цвет нужно рассматривать как определенное реалистическое изображение в самом элементарном его виде, как изображение, предполагающее уже определенную форму. Весь ансамбль — цвет, покраска, орнамент, картины, отдельные изобразительные элементы, различное обрамление — должен стоять перед нами как решение сложной задачи синтеза. Очень важен вопрос о том, как на архитектуру ложится фреска, как ложится на стену роспись. Мы можем условно установить два вида архитектуры: первый как бы выделяет скульптурные моменты и тем самым подчеркивает плоскость стены и в известной степени отвлеченность этой стены от массы, второй тип архитектуры берет всю массу здания в целом. Архитектура Ренессанса и Византии может служить примером этих двух типов. Ренессанс выделяет колонны, пилястры, карнизы и другие скульптурные моменты, поэтому стены в зданиях этой эпохи часто кажутся немассивными. Контрастируя со скульптурными деталями, они становятся отвлеченными от массы. Византийский храм весь решается в одной почти монолитной массе, и только кое-где подчеркивается отвлеченная массивная стена. Стенная живопись отвечает на разную архитектуру по-разному. В искусстве Ренессанса живопись развивает рельеф очень глубоко. Следует отметить, что надо отличать развитие плоскости стены в глубину от нарушений стены путем выхода изображения к зрителю за переднюю зрительную плоскость. Глубина во фреске необязательно влечет за собой нарушение стены. И Веронезе и Тициан дают развитие движения в глубину и делают тем стену отвлеченной, но как зрительную плоскость они ее сохраняют. Это оправдывается тем, что стена выражает свою массу в отдельных скульптурных деталях колонн и пилястров, которые держат эту стену и составляют как бы раму. В целиком массивной архитектуре такого решения быть не может — здесь органично более плоскостное решение, чаще всего не рассчитанное на определенную точку зрения. Это решение связано с движением по стене, с восприятием живописи на близком расстоянии и т. п. И в современной архитектуре сохранены эти два типа решения. Целый ряд архитекторов опирается на Ренессанс; с другой стороны, конструктивистские тенденции в архитектуре утверждают общую архитектурную массу, которая не позволяет организовать глубину и развивать ренессансную фреску. Эти архитектурные тенденции борются, объединяются, но в конечном счете — все-таки могут существовать и параллельно. В связи с этим живопись, по-видимому, будет иметь разные задачи в зависимости от того, на какой тип архитектуры она рассчитывает. Одним из серьезнейших современных опытов монументальной живописи является роспись плафона Е.Лансере. Его живопись, несомненно, удачно связывается с тяжелыми рамами архитектурного обрамления. Именно такой глубины и требует такая архитектура. На лишенной скульптурных деталей стене глубина росписи потеряла бы конкретность. В другую группу мастеров, работающих над монументальной формой входит Дейнека. Эта группа в какой-то мере исходит от графики, от формы бумажной изобразительной плоскости. Они часто графически решают свои композиции и легко дают большую глубину, но эта глубина совсем другого характера, чем у Лансере. Это глубина чисто графическая, она не имеет перспективной конкретности в смысле движения в глубину, она не строится на непосредственной связи предметов друг с другом, она прямо переходит к мелким предметам, которые находятся на горизонте. Это придает определенную легкость всей композиции, но это в какой-то мере возвращает нас к чертам стиля модерн. Стена берется более или менее отвлеченно, она не массивна. Мне кажется, что такая форма монументальной живописи связана с конструктивизмом, с архитектурой, лишенной материальности. Получается так, что на нарисованной стене нарисовано панно. Только Дейнека в своих последних работах добивается рельефа, предельной глубины, большой цветности и конкретности. Группу Дейнеки в целом, несомненно, выделяют также серьезные искания нового современного типажа. Далее можно выделить большую, очень разнохарактерную группу, которая главным образом разрабатывает проблему ритма. Мастеров этой группы можно упрекнуть в стилизаторской тенденции. В оправдание нужно сказать, что задачи ритма чрезвычайно сложны и здесь, следовательно, реализма добиться гораздо труднее. К этой группе следует отнести Бела Уитца, художников Советской Украины: Седляра, Бойчука, Павленко и ряд других художников. Задача ритмического оформления архитектуры чрезвычайно важна. Подход к решению этой задачи диктуется самой архитектурой и в значительной мере самой жизнью. Завод ГАЗ в Горьком, который я вместе с рядом других художников посетил, поражает своим техническим совершенством, но, кроме того, он поражает и красотой всего окружения, именно ритмической и цветовой красотой. Засилье старых ритмов, в которых мы гораздо больше, чем в типаже, зависим от архитектурного и вообще художественного наследства, может исчезнуть в нашей работе на натуре. 25 декабря 1934 года   Выступление на Первом творческом совещании по вопросам синтеза пространственных искусств Товарищи, я должен рассказать о своей работе. В общем кое-что о ней сказал Лев Александрович Бруни. Я в одном здании с ним делал фреску. Это было в Музее охраны матери и ребенка. Но я был в несколько других условиях, чем он. Мне достался так называемый вестибюль, но это громкое, конечно, название, потому что это скорее коридор перед раздевалкой: ход с улицы сразу и затем двери уже в раздевалку. Ширина очень небольшая, и длина очень небольшая. Помещение как бы даже неудобное для росписи. Причем это дом старый. Но я во всяком случае был доволен темой и доволен, что это помещение совершенно отдельное, в котором я мог работать один на свой страх. С тематической стороны нужно было очевидно выразить то, как подходят у нас к матери и ребенку, и изобразить антиподы этому из прошлого быта: какую-нибудь девочку, которая нянчится с ребенком, или же семейную обстановку, совершенно не дающую никакой возможности воспитывать детей. Но потом постепенно эти мрачные картины ушли, потому что решили, что этот вход должен быть в соответствии со всем остальным музеем и тема его должна быть радостной, праздничной. Поэтому осталась вообще одна тема — женщины, занятой детьми в новом обществе, в новой обстановке; матери, освобожденной от [тяжелых] бытовых условий, посвящающей себя труду, сельскому или фабричному. |
