Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
— Бывает ли так, что Вы перерезаете по несколько раз одну и ту же доску? — Бывает. Вот эскиз последней иллюстрации к «Дон Гуану», где Дона Анна сидит в кресле, а он машет рукой. Я награвировал ее, а потом награвировал ту иллюстрацию, где она лежит уже на полу. Между прочим, ту иллюстрацию, где она лежит уже на полу, я взял из первого варианта, из маленьких иллюстраций. И все остальное я взял соответственно этому. У меня здесь особую роль играет черный цвет: ее дал в черном платке, черном платье и так далее, но все это разный черный цвет. — А печататься издание будет прямо с досок? — Нет, гальвано. — Так же плохо будет напечатано, как все прошлое? — Но почему? Сейчас получается неплохо. — Кто-то до этого еще делал гравюры к этим произведениям Пушкина и трактовал эти образы как-то по-своему. Мне интересно, как Вы раскрывали эти образы? — Я видел довольно много иллюстраций к «Пиру во время чумы». Но я с ними был не согласен. Там по большей части изображали такую золотую молодежь. А я сделал иначе. Это, во-первых. А во-вторых, вы знаете, что «Моцарта и Сальери» делал Врубель. Его я не смею критиковать. Но старался даже не смотреть последнее время, как он делал, чтобы не подражать ему. — Владимир Андреевич, когда Вы гравируете или компонуете, какой из этих процессов отнимает больше времени или они равноценны? — Компоновать легче всего. Если взять эти рисунки и с помощью рентгена выявить все, что там было, то вы увидели бы несколько композиций — штук до десяти в каждой. Но я обычно не делаю отдельно вторую композицию, третью и четвертую, а на том же листе, пока бумага терпит, я стираю и делаю снова. Но в общем мне кажется, что компоновать гораздо легче, чем резать. Резать тоже, конечно, очень увлекательно, но там дольше. Сейчас я режу форзац. Это физически очень трудно такой громадный форзац резать. Но, в то же время, пока режешь, режешь чисто технически, приходят мысли и подсказывают — что-то, наподобие того, как скульптор рубит из камня и камень подсказывает ему форму. Так и тут. — Тут разные исторические эпохи и разные страны. Когда Вы над этим работаете, Вы просто по памяти стараетесь восстановить, что это — Испания шестнадцатого века, а это — Англия, это — Шотландия, или Вы смотрите какие-нибудь источники? Скажем, «Моцарт и Сальери», восемнадцатый век,— мебель, кресла и так далее. Как это у Вас происходит? — Кое-что смотрю. Как раз для последних иллюстраций к «Дон Гуану» и у Лауры, к ее будуару, так сказать, мне нужны были особые орнаменты. Я пользовался некоторыми материалами по Испании и то, что мне нужно было, находил. Когда делаешь какую-то вещь, мне кажется, что не нужно очень заострять те костюмы, которые тогда были, со всеми их странностями. Так и тут стараешься не очень подчеркивать это. Ну, шестнадцатый век так шестнадцатый. Должен сказать, что у меня Скупой рыцарь в костюме шестнадцатого века, а Альбер, пожалуй, в костюме пятнадцатого века. Но я к этому не придирался. Если больше вопросов нет, разрешите мне на этом пока закончить. 22 декабря 1960 года  Об иллюстрациях к «Эгерии» Эту серию я делал в 20-х годах. Это иллюстрации к роману П.П.Муратова «Эгерия». Роман, чем-то похожий на Анатоля Франса, назван «Эгерией» по имени нимфы, с которой беседовал Нума Помпилий, первый римский царь. Он с ней советовался. Внизу фронтисписа я мелко изобразил этот момент. В романе роль Эгерии играет дама, окруженная ухаживателями. Иллюстрации включают фронтиспис, на котором изображены все действующие лица, четыре заставки и четыре концовки. [Действие] первой главы происходит в Риме; вторая [иллюстрация] — «Карета в Апеннинах»; третья — «Дуэль», тоже в Италии; четвертая — «В лодке», в Стокгольме. В этих гравюрах я увлекался контрастом белого с серым. Мне кажется, что всякое пятно оптически заменяется белым пятном и организует движение от белого к серому. Вот этим я и воспользовался для композиции, особенно во фронтисписе. Но и в других гравюрах тоже. Стоит, глядя на серое, двинуть глаза, как обнажается белое той же формы. [Нач. 1963 года] 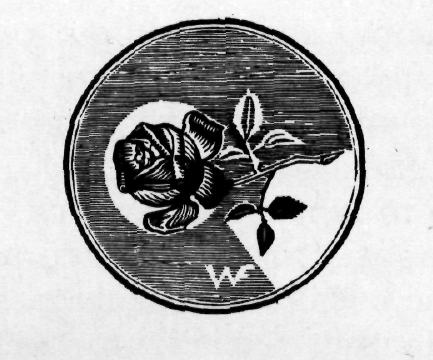  О том, как я оформлял «Бориса Годунова» Пушкина Получив задание оформить трагедию Пушкина «Борис Годунов», я прежде всего обратился к статье Белинского о трагедии Пушкина «Борис Годунов» и должен сказать, что не совсем согласен с ним. Он считает, что вообще в русской истории не могло быть героев трагедии и что, если считать, что трагедия заключается в раскаянии Бориса, то это слишком мелко для трагедии. На самом же деле трагедия заключается в том, что народ, в сущности, не признает Бориса царем, не любит и отвергает его. Таким образом, народ становится героем трагедии и главным лицом всего произведения. Это я и хотел выразить в своих иллюстрациях. В этом и должен был сказаться стиль вещи. Сложное отношение Бориса к окружению, к народу, его властность и приниженность, разумность и жестокость. Очень лаконичный переплет. В нем я употребил печатный орнамент годуновского времени; за ним следует узорный орнаментальный форзац (оборот переплета, разворот, следующий за переплетом непосредственно. Часто он бывает цветной, иногда орнаментальный, иногда изобразительный); затем фронтиспис — общая иллюстрация для всей книги, передающая как бы душу книги, в данном случае — портрет автора, портрет Пушкина с пером в руке; и титул — название вещи и автора; заставка на титуле изображает мужика на амвоне, и там же Гаврила Пушкин, так что Александр Сергеевич как бы смотрит в глубь истории, на своего предка. Я сделал обстоятельный портрет, а титул — легкий, воздушный. Прежде всего иллюстрация обставляется обстоятельствами времени и места, костюма и т. д. И, между прочим, более частным обстоятельством света, освещения. Все эти обстоятельства работают на вероятность и достоверность события. Между прочим, как раз обстоятельства света как более частные необходимы в психологическом произведении. Поэтому я следил за светом и часто подчеркивал частный случай света, например контражур: когда предметы заслоняют свет, ты смотришь на свет сквозь главных действующих лиц. Изображение в психологическом произведении как бы более натурально, поэтому в данном случае необходимо обстоятельство света. В трагедии мне нужно было рассказать о Борисе Годунове, а также о Лжедмитрии. Я взял страничные иллюстрации. Из них прежде всего разворот — воцарение Бориса; потом — Пимен, монолог Бориса; малый разворот — корчма; Борис у детей; сцена у фонтана; потом разворот — Борис и Юродивый; смерть Бориса; сцена у Лобного места — малый разворот; и в конце концовка — «Народ безмолвствует». Самый ответственный разворот был Борис и Юродивый — кульминационный момент всей трагедии, поэтому я выбрал разворот, одну из самых больших иллюстраций. Здесь Борис, обвиняемый Юродивым в присутствии народа в преступлении, не оправдывается, а подчиняется обвинению. Тут надо сказать, что изображать Бориса, его смятение было трудно. Помогли как аккомпанемент лица бояр, и гневные и недоумевающие, и ритм шапок, делающий фриз из лиц, некий ритмический ряд. Народ смотрит недоумевающе то на Юродивого, то на Бориса, слепой слушает и не верит ушам, стрельцы тоже недоумевают. Из трудных страничных иллюстраций были еще — монолог Бориса. Здесь мне что-то дало, что я поместил фигуру Бориса у самой рамы. Затем — смерть Бориса. Ее выразить довольно трудно. Он умирает и говорит с сыном. Довольно значительны для иллюстрирования трагедии получились малые развороты — корчма и сцена у Лобного места. За материалом я обратился к современному Годунову писателю Ив[ану] Михайловичу] Катыреву-Ростовскому. В древней письменности был очень распространен словесный портрет, и часто мы имеем и лаконичное и выразительное описание какого-нибудь лица. Прямо удивляешься выразительности. У Катырева-Ростовского, который жил во время Бориса, видался с ним, есть портреты всей семьи Бориса, и Гришки, и Шуйского. К Борису Годунову он пристрастен, он его превозносит, так что портрет его не конкретный, а отвлеченно-изобразительный. О Ксении, дочери Бориса, он очень ярко пишет: «Царевна же Ксения, дщерь царя Бориса, девица сущи, отроковица чюднаго домышления, зелною красотою лепа, бела велми, ягодами румянна, червлена губами, очи имея черны велики, светлостию блистаяся; когда же в жалости слезы изо очию испущаше, тогда наипаче светлостию зелною блисташе; бровми союзна, телом изообилна, млечною белостию облиянна, возрастом ни высока, ни ниска; власы велики имея черны, аки трубы, по плечем лежаху. Во истину во всех женах благочиннейша и писанию книжному навычна, многим цветуще благоречием [...]». Таким образом, Ксения для меня становилась совсем живой. Затем портрет Григория, его многие описывали. Но вот у того же Катырева-Ростовского: «Рострига возрастом мал, груди широки имея, мышцы толсты; лице же имея не царского достояния, препростое обличие имея, и все тело его велми помраченно. Остроумен же, паче и в научении книжном доволен, дерзостен и велеречив велми, конское рыстание любляяше велми, на враги своя ополчителен, смел велми, храбрость и силу имея, воинство же любляше». И, наконец, Василий Шуйский, который много раз фигурирует в этой трагедии: «Царь Василий возрастом мал, образом же нелепым, очи подслепы име; книжному почитанию доволен и в разсуждении ума зело смыслен; но скуп велми и неподатлив; к единым же тем тщание имея, которыя во уши его ложное на люди шептаху, он же веселым лицем сих восприимая и в сладость их послушати желаше, и к волхвованию прилежая». Все это служило мне материалом, и на основании его я искал и создавал типы, нужные мне. Для Бориса Годунова я взял красивое и выразительное лицо, выдававшее тюркское происхождение. Наряду с большими иллюстрациями я сделал много мелких иллюстраций в тексте, изображающих разные моменты. Чудов монастырь, крестный ход, разговор Шуйского с Воротынским и монолог Григория. Потом — Шуйский с Пушкиным и Шуйский у Бориса; затем — Лже-дмитрий с Курбским, он же с поэтом и он же с пленным. Потом изображение поляков, Мнишек и Вишневецкий. Бегущие русские воины, их спор с Маржеретом; разговор Бориса с Басмановым; лагерь Басманова, Басманов и Пушкин; словом, много иллюстраций, передающих разные моменты. Через всю книгу проходит образ Бориса, начиная с воцарения и кончая смертью. И через всю книгу проходит образ Лжедмитрия, начиная с иллюстрации беседы с Пименом и кончая сценой с пленным. Важное место занимает Шуйский, начиная с разговора с Воротынским в большом развороте, где он отрекается от своих слов, и кончая сценой в думе, где он слушает рассказ патриарха. У Пушкина вся вещь состоит из картин, почти равнозначных. Это придает всей трагедии некоторое эпическое звучание. Это прежде всего история. Но самое важное действующее лицо — это народ. И Пушкин характеризует его сложность, и противоречивость, и, в известном смысле,— чистоту. Он (народ) перед Новодевичьим толпой стоит, надеясь, что Годунов его выручит. Народ описывается и в сцене у Лобного места, где он загорается желанием отомстить Годунову. Воины бегут и говорят Маржерету, что они не могут идти против царевича, они-де православные. Концовка изображает — «Народ безмолвствует», когда он видит какую-то историческую несправедливость. Пушкин составил трагедию из картин. Я самовольно расчленил эти картины как бы на шесть сцен и выделил некоторые иллюстрации, которые начинали эти сцены как антеты или заставки. Это помогло мне оформить всю книгу, так как расчлененное легче свести к цельности. Большие и малые иллюстрации я сопроводил орнаментом, пытаясь передать в нем подоплеку того, что происходит, стараясь ритмом и сюжетом орнамента передать трагедию — как в смерти Бориса, легкомысленный польский характер — как в сцене у фонтана, или суровость — у Пимена и т. д. Вот так я оформил всю книгу. Надо сказать, что орнаментальная передача темы подобна музыкальной. Иногда непонятно, чем передается то, что нужно. Сказать словами трудно. [Нач. 1963 года]  О «Новогодней ночи» Сюжет «Новогодней ночи» относится к началу революционных лет. Благополучный гражданин Кирилл Павлович просыпается от после-обеденного сна, и описывается новогодний вечер. Он, Кирилл Павлович, с женой и дочерью, в семейном кругу встречает Новый год. У дочери Маши есть жених — прапорщик. Он в это время везет на расстрел под конвоем нескольких красных. Среди них и герой — Долгих, и среди них есть еще очень экспансивный человек, приходящий в отчаяние; но, когда они приезжают на место, он как отчаявшийся бросается на прапорщика и на конвой, вырывает винтовку и, устроив суматоху, дает возможность всем разбежаться. Часть бежит в поле, где их видно на снегу, и их перестреляли. А Долгих бежит в другом направлении, к какому-то зданию, ему удается уйти. Но он ранен пулей вдогонку. После долгих мытарств он решается зайти к Кириллу Павловичу, с которым он был немного знаком, и Маша ему отворяет и принимает его. А утром Кирилл Павлович умоляет его уйти, он боится. Ему приходится уходить. Маша наряжает его в пальто, в шапку и помогает выйти. Они садятся на извозчика, но потом у них не оказывается денег, и она платит извозчику часами, чем вызывает подозрение. Но в конце концов Долгих попадает к белым в госпиталь. Маша там работает сестрой. И наконец она ему сообщает, что красные входят в город. Вот и вся история. Очень интересно Спасский пишет. Он описывает какую-нибудь вещь, ее не называя, называет только в конце, и ты удивляешься, что он изобразил ее верно. И так всюду. Я, когда иллюстрировал эту вещь, решил дать людей решительней, чем в других иллюстрациях. Они своей формой более грубы. Это ночь, и трагическая ночь, поэтому силуэты людей в иллюстрациях складываются из простых объемов и обрезаны, тем самым как бы придается им осязательность. Например, в изображении прапорщика [на коне] голова и ноги лошади обрезаны, и это как бы дает запах лошади, до того изображение осязательно. И так всюду. [Май-июнь] 1963 года  Как я оформлял «Рассказы о животных» Л. Толстого Давно, еще в издательстве «Academia», мне привелось оформлять маленькие рассказы о животных Л. Толстого, не кого-нибудь! Нужно было быть сугубым реалистом, и иллюстрации должны были быть особенно реалистичными. Надо сказать, что я даже мысленно не брался иллюстрировать его работы. Толстой описывает своих героев зрительно, так что иллюстрация как будто не нужна — повторяет то, что сделал Толстой. Вот, например, его описание Долохова в романе «Война и мир»: «Долохов был человек среднего роста, курчавый, и с светлыми, голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В сере-дине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым клином, и в углах образовывалось постоянно что-то в роде двух улыбок, по одной с каждой стороны; и всё вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным взглядом, составляло впечатление такое, Интересно это описание сравнить с описанием героя рассказа «Выстрел» у Пушкина: «Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частию военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета». У Пушкина почти нет зрительных описаний. Он описывает больше психологию и характер героя. Так что иллюстрация, конечно, сыграла бы нужную роль, изобразила бы зрительно то, что Пушкин выразил как романист, писатель, словесно характеризуя своего героя. Но в маленьких рассказах, все изображая очень реально, Толстой не прибегает к зрительным описаниям. И вот я прежде всего должен был найти зайца, настоящего зайца, а не кролика, которого всё мне подсовывали всякие изображения. Куда бы я ни обращался — всюду был кролик. Наконец, в вольере с павлинами я нашел зайца и поразился его строением. Он был гораздо серьезнее, чем кролик. Я стал гравировать. И должен сказать, что гравюра, которая у меня получилась, мне не понравилась. У меня вышел заяц очень реальный, но чем-то он был нехорош. Мне казалось, что его можно разглядывать — шуба такая, строение такое, весь подход такой. Но больше ничего. Можно было сказать, что признаков отрицательных у него не было, но он никак не был поэтическим зайцем. А мне нужен был реально-поэтический заяц, который рассказывал бы о снежных полях, о морозах, о порослях осины, о морозных ночах. И я награвировал другого. А кроме того, мой заяц должен был жить в книге, в этой вот книге. А книга как складывалась? Прежде всего шрифтом. Мне удалось заполучить великолепный шрифт в Гознаке. Это была «обыкновенная» гарнитура — то есть с тонкими усами и довольно черными штамбами, так что книга вся была наполнена красивым черным цветом, и вот в таком пространстве должен был жить мой заяц. Он должен был быть круглым и темным и вылепленным средствами гравюры. Так установил я для себя, как мне быть с реализмом Толстого. Теперь обо всей книге. Обложка — заяц среди кустов — гравюра в два цвета. Здесь довольно экономно взят второй цвет и для спинки зайца, и для фона. Как мне казалось, на обложке я имел право сделать большого зайца. Затем титульный разворот. Здесь главные хозяева — буквы. И рядом с ними животные, и голуби, и Толстой, который все это рассматривает. Широкий вход в книгу; а дальше текст (я уже говорил о его красоте) был снабжен моими заголовками — тоже буквами, больших размеров. И здесь первая иллюстрация, я ее не буду защищать — она мне не нравится. А дальше воробей, воробей реальный, которого почти что можно пощупать, он почти что скульптура, до того он входит в наше сознание как существующий. Дальше — полет ласточек туда и сюда, живой, хлопотливый, над гнездом. Это было реально, особенно в книге, на странице. Дальше — заяц с серебряной шкуркой, которую могла только гравюра сделать. И потом рассказ про зайца на развороте — морозная ночь. Каждый рассказ оформлялся по-своему, рассказывал по-своему о своем герое, и тем не менее вся книжечка получилась цельной. Дальше — «Орел», рабочие кидают камни в летящего орла. Тут я должен сказать, что мне удалось сделать дерево очень большим, потому что я низ его [сделал в ракурсе, а верх — ] выпрямил. Кончил я этот рассказ виньеткой — орлиное гнездо с орлом. Это книжно красиво, это книжно живет.  О Шекспире Хорошее литературное произведение, как ни странно, легче иллюстрировать, чем плохое. Оно, с одной стороны, подымает художника, с другой стороны, ставит перед ним трудные задачи. Шекспир, конечно, хорош. Он отличается тем, что его произведения всегда передают действие. Действие — вот язык его. И, кроме этого, герои Шекспира сложны и цельны — не примитивные злодеи и не примитивные добродетели. Художники книги много раз брались за Шекспира, и выбрать кого-нибудь из них я не могу. А мечтаю о том, чтобы издали Шекспира со всеми иллюстрациями, какие сделаны к нему московскими художниками. Причем надо использовать иллюстрации Михаила Полякова, которые он делал для себя. Относительно «Сонетов» могу сказать, что сонеты, в конце концов, все показывают их героя прекрасным мужчиной и прекрасную черную даму. Я хотел их передать. В своих сонетах и трагедиях Шекспир касается всех моментов нравственных, так что можно сказать — ничто человеческое ему не чуждо. 1 апреля 1964 года  Реализм изображений усилился рассказом, так, например, история со слоном — изображены все три состояния слона: как он рассердился, как он подчинился женщине и как он стал работать с мальчиком на шее в качестве своего вожака. Все рассказано, как в рассказе, все можно видеть и в то же время все это по-книжному, со шрифтом вместе, так же цвётно. Наконец — «Акула». Тут я, с одной стороны, хотел поразить читателя видом этого чудовища среди волн, с другой стороны — в подробностях рассказать о выстреле. Я обратился к художнику Павлинову Павлу Яковлевичу, который когда-то служил во флоте, чтобы узнать все про корабль и про орудия. И на развороте использовал две страницы для иллюстрации. Я рассказал все в подробностях. Мне нужно было, с одной стороны, сделать это цельно, с другой стороны — как можно подробнее рассказать о всем. Рассказ в этой иллюстрации доведен до предела, но таким способом он становится особенно реальным. Кончается все рыбкой, после страшной акулы. Маленькая рыбка -это концовка всей книги. Таким образом, я, как понимал, сделал толстовские рассказы. И мои иллюстрации в связи с этим должны были быть поэтическими — во-первых; потом — жить в этой книге, существовать в ней в связи со шрифтом, со всем, что в книге есть. Этому помогают заголовки. [Июнь] 1963 года  К юбилею Лермонтова Я награвировал для Энциклопедии портрет Достоевского, который понравился, и его напечатали. Затем мне заказали портрет Лермонтова, его не приняли, не согласны были с моей трактовкой. Тогда было в ходу представление о Лермонтове как о смуглом юноше, большеглазом. А я представлял себе Лермонтова не так. Большие глаза несомненно у него были, но сам он был несколько тяжеловат, любил лежать на подоконниках в Университете, как сам он вспоминает. Поэтому я сделал его лежащим. Мне кажется, что удалось сделать его портрет не шаблонным. Потом 'я иллюстрировал «Песню о купце Калашникове». Я сделал всю книжку — с заставками и концовками и полосными иллюстрациями. Но награвировать не успел, награвировал только один разворот, антет и концовку, так как книга издавалась очень спешно. По-моему, бой Калашникова с опричником у меня вышел, но я недоволен Грозным, который смотрит на бой (на левой стороне разворота) — недостаточно энергично. Эта «Песня» очень всегда мне нравилась, в ней соблюден напевный древний ритм, но этот ритм звучит по-современному, и в этом заключается красота вещи. И в то же время кулачный бой манит на дуэль. Еще я сделал маленькие концовки к «Пророку» и к стихотворению о сосне и пальме. Мне всегда импонировали иллюстрации Константинова к «Мцыри».Мне они всегда нравились. По-моему, для Лермонтова характерна живописность, она в его иллюстрациях как раз есть. 11 октября 1964 года  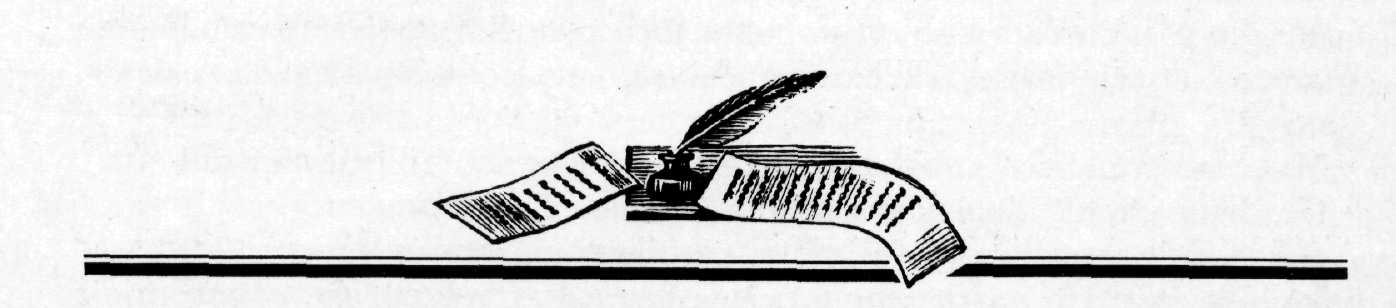 Приложение 1 Беседы с искусствоведом Е. С. Левитиным 1 мая 1961 года О буквицах к «Суждениям господина Жерома Куаньяра» А.Франса Это я делал для издателя... забыл, как его... А какое издательство? Издательства у него не было, было только право издавать... Вот — Кожебаткин. Я к этому времени сделал «Пейзажи Москвы», «Загорск», «Натюрморт», а для книги серьезно не делал. Ну, он мне предложил. Был какой-то особый перевод. Он мне и заплатил, но я не окончил. Так это и не издали, то ли от этого, то ли у него денег не хватило издать. Трудно было делать, я таких тонких вещей еще не резал. У писателя-реалиста есть эдакая цельность что ли. А есть писатели-ироники, вот как ... которого Кибрик иллюстрировал ... да, Роллан. Он словно все понимает и все оправдывает. Берет одну только сторону. Такие сначала очень нравятся, а потом — меньше. Таких-то легче иллюстрировать. Романтику вообще легче изображать, чем реальность. Падшего ангела изобразить легко, а вот какого-нибудь буржуа — труднее. И еще тут 18 век, хотелось, чтобы и это отразилось. Так меня еще долго считали специалистом по 18 веку. Ну, тут главное — отношение фигур и фона. Свет у меня падает на фигуры. Так как на них лежит буква, то они уходят в глубину, если бы буквы не было, они вырывались бы, были бы чересчур объемными. Под буквой главным образом — белое, хоть и не всегда. Вот эти три: «У», «М» — с Христом и «Г» — у дома, — это об юстиции. Вот эти: «П» — двое и солдаты, «М» — тут петух и «С» — с Цезарем,— это об армии. «М» — это с памфлетистом. А это: «В» — на фоне полок,— с революционером, Куаньяр говорит ему, что не надо революции, это насилие,— такой идеалист; «Г» — у книг,— это с бароном; а вот это: «М» — с собакой,— это Пасха, тут он говорит Турнеброшу, что собаке не надо поститься, так как Христос за нее не умирал; «Г» — у стола,— это разговор с англичанином; «О» — тут он разговаривает с девушкой — Катерина она, что ли, она все время мелькает в книге. «О» — с Цезарем,— тут коня я взял у Марка Аврелия отчасти. Вот в некоторых буквах я интересовался углами, затенял их, чтобы собрать все в центр, мне казалось, это я, как Сезанн, делаю. А композиции отдельных буквиц определяются самими буквами? Да, пожалуй; ну, вот здесь двое идут — «П», вот тут такой круг, двое разговаривают — «О». Да, конечно. Ведь я композицию искал, зная букву, так что и выходило само. Гончаров как-то говорил, что они в Гослите издадут «Куанъяра» с Вашими буквами, специально отредактировав перевод. Но он ведь ушел уже оттуда. Да, и Тамара Георгиевна* говорила что-то об этом. Ну, да я не в восторге, ведь это надо хорошо напечатать, а это навряд ли. Да, вещи-то эти живут. О «Фамари» А.Глобы Ну, тут меня привлекала библейская тема. И хоть у Глобы это по-другому, чем в Библии, но материал тот. Это Вам Глоба сам предложил или Вы выбрали? Нет, он сам предложил. Мне вот всегда казалось, что к плохой, средней книге иллюстрации хорошие сделать трудно. Выходит более серьезно, чем книга. Вот и тут так. И еще я Пильняка делал. Мне и сейчас кажется, что я что-то там нашел. А Пильняк-то, может, о себе скромнее думал, чем иллюстрации, они — серьезнее, мне кажется. В обложке у меня был интерес ко многим вертикалям, все имеет свою вертикаль, но все вместе они тяготеют влево, это дает ось вращения. Вот это (справа черная вертикаль, как бы составленная из овалов — Е.Л.) — это семитская сложная вертикаль, очень характерная, так же как ассирийская башня. А в названии у меня еще фита была, я перерезал ее и для вертикали, кажется, спичку просто вставил. А это семисвечник? Да, семисвечник и кинжалы. Ну, вот — фронтиспис. Он мне и сейчас нравится. Ведь у Глобы ничто с ковчегом не связано. Это вообще библейская тема? Да, это от Библии, как бы семя всего. Вот в экслибрисе Папа-Афанасопуло — там ковчег другой, она просила меня изобразить что-нибудь выразительно христианское, там Ковчег Истины, что ли. А четыре изображения по углам? Ну, это то же самое. Это вот ноева лоза, это дельфин — море, это голубь, которого выпустили и он не вернулся, а это ворон, который нашел трупы. (О титуле — Е.Л.) Мне тогда казалось, что слово должно выражать корень и конец — что-то главное, а что-то надо сделать легче. * Вебер (Прим. Е.С.Левитина). (О фронтисписе к Действию первому — Е.Л.) Ну, здесь мне хотелось дать противопоставление к пространству. В предметных, объемных фигурах я выражал действие. В них я исходил из ранних бронзовых греческих скульптур. А в фоне сделать хотел, как Сезанн, что ли, у которого пространство и плоскость взрываются. Вот эти пробелы, они как бы приближаются к нам. В пространство и фигуры на нем нарочито вводил черный штрих — для определенности. Мне в то время казалось, что человек в иллюстрации должен быть близким к букве — тот же объем, силуэт, жест,— чтобы все было в одной системе. Ну, вот так и старался делать. Поэтому и без закрытой рамы. А заставки пространственно связаны с иллюстрацией? Не дают ли они первого плана как темы мира, вселенной? Да нет, пожалуй. Тут тоже объем и пространство как главная тема гравюр. Когда я писал о «Фамари», мне казалось, что здесь нарочито все уплощено, все выведено на авансцену, чистая театральность жеста, Да, это так. Я хоть заинтересовался тут библейской темой, но стиль Глобы — поверхностный, и это обнаруживается. (О кондовке к Действию первому — Е.Л.) Меня до сих пор интригует, что это значит. Мне тогда казалось, что графика — это линия, пятна я избегал. И вот: как линия одномерная дает двумерность? Вот волюта, здесь круглящаяся линия более, чем простой параллельный штрих, дает второе измерение. (О фронтисписе к Действию второму — Е.Л.) Фронтиспис я решал, как и заставку: объем и плоскость. А в заставке — уже белый штрих, более тяжелый. Очень трудно было искать белое справа, чтобы отделить фигуры от фона. (О концовке к Действию второму — Е.Л.) Тоже противопоставление плоскости и объема. Казалось нужным ввести этот кружок белый. (О фронтисписе к Действию третьему — Е.Л.) «Фамарь» в ГИЗе принимал у меня Фалилеев, он был там главным художником, ему понравилось. Ну, вот здесь. Тогда казалось, что все это необходимо — черные плоскости, что без этого нельзя. Под столом — белый штрих, он приближает. После этого листа мысль о театральности у меня окончательно укрепилась, это как овал от театрального софита. (Об иллюстрациях к Действию четвертому — Е.Л.) Да. Но я-то искал отвлеченности. А вот этот белый прорыв — он поддерживает белую овальную плоскость. В заставке то же. Но круглящиеся линии дают больший объем, как и раковина и ветка. (О концовке — Е.Л.) Это солнце и луна. Такая, что ли, космическая тема. (Об общей концовке — Е.Л.) Это лоза. Перекликается с фронтисписом. 19 мая 1961 года О «Домике в Коломне» А.С.Пушкина Я начинал с черного. У меня была тогда идея — мне ее Флоренский подсказал,— что Пушкин начинает с резкого, а потом смягчает. Вот как в «Рыцаре»: «Он-де богу не молился, он не ведал-де поста, не путем-де волочился он за матушкой Христа»,— а потом убрал это, смягчил. И я резко начинал — с черного. Меня черное тогда очень интересовало. Переодевшегося мужчину изображать было неинтересно, и как показать, что Мавруша — переодетый мужчина. У Пушкина он некое инкогнито, я и дал его вне объема, силуэтом. Обложка эта — неплохая. Черное, шрифт — это как материк, плавает в белом; важно, чтобы правильно выступало, было равновесие. Вот если монограмму закрыть, то черное уходит вглубь. Корни слов я выделял, в «О» подчеркивал две оси — вертикальную и горизонтальную, в согласных-то одна вертикаль есть. Здесь хорошее начало — белая страница, потом фортитул, потом снова белое. Хотелось, чтобы было больше воздуха в начале. В титуле я вот эту надпись («гравюры на дереве В.А.Фаворского» — Е.Л.} выключил за рамку, получается как бы другое пространство, страница делается интереснее. Эта книга интересна как книга, иллюстрации — менее интересны, кроме мелких. (Стр. 7). И здесь черное тонет в белом, все — на черном штрихе, к концу слов я облегчал. (Стр. 8). Ну, здесь Буало, Гюго, александрийский стих. (Стр. 9). А здесь — сам Наполеон. (Стр. 10). Тут крапива, Пегас, журналы зазывающие. (Стр. 11). А это журналы ставят Музу в угол. Почему у Вас здесь (стр. 12) надпись? Я ведь в больших иллюстрациях давал надписи — ну, вот и здесь. А к этому (стр. 13 — Е.Л.) много придирались — почему глаза нету. Я уж сейчас и сам не знаю. Ну, чтобы опять — белое всплывало. (Стр. 16). Эта иллюстрация мне нравится. Я старался сделать обстоятельнее и действительнее, как можно подробнее — подробнее я уж не знаю, как бы я мог сделать. Но всюду исходил из черного штриха — вот клирос, профиль, пересекающиеся штрихи. Меня, вот, мои прохоровцы* спрашивают, что такое левое и правое искусство. Я им написал, что это количество вещности и образности, в левом — больше вещности, в правом — образности. Тогда-то я больше вещности искал. (Стр. 20). Тут Параша объемная, а Мавруша — нет. (Стр. 21). А здесь уж ничего объемного. Концовка у меня была сначала другая — косынка и усы. Пушкин здесь все шутит и разговаривает, это попытка передать Пушкина. Эту книгу мне Эттингер пробивал у «Друзей Книги», они-то ее слишком левой считали. * Дети из украинской школы, которую опекает Владимир Андреевич (Прим. Е.С.Левитина). А книга эта сделанная, сделанная вещь. Хотя большие иллюстрации я сейчас не так бы сделал. Мне вот рассказывали про одного киевского книжника, не помню его фамилии, что он ушел на фронт и одну эту книгу взял с собой. Так что как книга она оценена все-таки была. О «Рассказах о животных» Л.Толстого Здесь Толстой деловито рассказывает о вещах. И мне хотелось быть конкретнее, проще: чтоб воробей — так воробей, акула — так акула. В титуле — наступление белого. И вот рефлекс на ноге отсюда, мне тогда казалось, что нельзя иначе. Шрифт в книге хороший, это гознаковский шрифт, старый «обыкновенный». Детгиз как-то хотел переиздать книгу, но им показалось, что слишком много белого, поля большие, а по-другому — нельзя. Тамара Георгиевна обещала мне, что для «Маленьких трагедий» мне дадут самому выбрать шрифт, а сейчас она уехала, от меня пошли в издательство, а там сказали, что они уже решили — будут набирать «елизаветинским», а это плохо, у «елизаветинского» слишком узкое очко. Ну, я ей написал, не знаю, как будет. Она мне все обещает — и шрифт, и розовый переплет, а как до дела доходит, так она уезжает. Ну вот, «Собака». Это не так конкретно — типичная собака; вообще рассказ традиционный. Поэтому больше отвлеченного — и вот в фигурах. В книге у меня много шрифта. (Стр. 7). Ну, вот «Воробей».— Типичный воробей. (Стр. 11). Зайца я два раза делал. Один был слишком биологический, научный, как для Брема. Долго я зайца живого искал — ив научных книгах, и в зоопарке,— всюду не зайцы, а кролики. Нашел в вольере с павлинами. (Разворот «Русака»). Происхождение белого здесь двоякого рода. Если дать сплошную штриховку, она выйдет неровной, грубой. А если подложить белое, она сливается в тон. Ну, и я воспользовался тем, что снег. Зимой в темноте на снегу бывают такие вспышки, от этого и белое такое. («Орел», стр. 18). Эта иллюстрация мне нравится. Не знаю, многие ли это заметили: трудно сделать дерево высоким, чтобы и орел, и гнездо были высоко, а мне кажется, что это получилось. Для этого пришлось повернуть дерево внизу, дать его в ракурсе, если бы его сделать прямым, оно было бы низким. С этой гравюрой у меня приключение было. В типографии еще до печати замяли угол (левый, нижний). Ну, они мне предлагают — срежьте рамку совсем, а мы дадим наборную. Я у них забрал и отпарил, просто пар из носика чайника пускал, и все стало на место. Они удивлялись: — Как Вы это сделали! («Слон», стр. 22—23). Тут приятно, что можно рассказать — вот, вот, вот. Очень толстовский рассказ. Ну, в «Акуле» главное — чтобы испугать зрителя. А разворот когда я делал, я долго советовался с Павлом Яковлевичем*, как корабль устроен. Но все-таки не все верно сделал. Пушка * Павлиновым (Прим. Е.С.Левитина). должна быть в амбразуре, она не на месте, чтобы наводить можно было. И я не понимаю, как это у Толстого. А в дыме я воспользовался... Я был на войне. Мы на Востоке стояли, они — на Западе. Вот вечером начинается пристрелка. Тогда не было бездымного пороха,— и вот выстрелят, наводишь трубу и из лощины обязательно колечко дыма поднимается — против солнца-то оно всегда видно. Павел Яковлевич меня упрекал, что слишком частые волны; ну, мы договорились, что на мелком месте может быть. А рыбку (стр. 31 — Е.Л.) я сделал в утешение. В книге очень важно, чтобы белое всюду было одинаковое, не было пустышкой. Тут это вышло. Обложка, конечно, другая. Но это и резонно, это уже не Толстой. Мне когда Пришвин заказывал «Женьшень», он говорил, что это Вы сделали лучше Толстого, но лучше меня не сделаете. Ну, я лучше Толстого-то не сделал. О «Новогодней ночи» С.Спасского Эта вещь интересна в смысле изображения, в смысле сюжета она очень проста. Спасский часто описывает, а потом называет: «[...] Гостиная, не разбуженная электричеством, существует по законам позднего вечера. Если вглядеться, можно заметить тихие перемещения теней. Они впадают друг в друга или совместно оплывают предметы. Неслышно борются с креслами. Кресла в белых чехлах то выныривают из их могучих и мягких объятий, то, запрокидываясь, погружаются ниже уровня пола. Отступя за рояль, приподнялась пирамидальная форма. Словно свернутая из спиралевидного сумрака. Шероховатое образование из бахром, стрелок, кистей. Дерево. Елка. [...]» Здесь белое играет большую роль. В супере я сделал ночь круглую, как в «Руфи». Когда Ленин заключил Брестский мир, мы из Румынии ушли и стояли в Бельцах. Так там каждый вечер стреляли — не как на фронте, не в человека, а вообще стреляли. Ну, вот и здесь я сделал. И заборы тамошние — мне провинцию надо было сделать. Ну, переплет — это не я, это наборный. Титул — важен. Тут едут на телеге и лошадь. Я хотел, чтобы предметнее было, так резал изображение. Особенно во «Всаднике» (стр. 25) — мне казалось, что так даже запах лошади передается. Тогда помнился и скрип седла, и запах шинели, я ведь воевал. А параллельно идет рассказ о встрече Нового года. И в заставки я вводил белое. Вот в заставке к третьей главе — важна форма всего пятна, чтобы белое находило на черное, черное поднималось на белое. (Стр. 39). Эта иллюстрация — самая фантастическая. Тут срезы-то для динамики. (Заставка к Главе четвертой). Тут он бежит. Вот насчет белого — это у меня и здесь, и в «Эгерии». Если по диагонали расположить белый квадрат и черный, то черный находит на белый, белый подкладывается под черный, как в переплете окна. Так что здесь я использовал зрительный опыт. (Стр. 47). Это я долго искал. Он сидит в снегу и качается — отсюда и белое пятно такое. (Заставка к Главе пятой). А здесь я хотел изобразить полную темноту. Он вот входит и падает с тростью. Старался изобразить блики, блески в темноте. От этого и белое такое. (Стр. 69). Ну, это психологическая иллюстрация, здесь я впервые психологию затронул, может быть. Почему Вы делали эту книгу? А она мне нравилась. Мне издательство предложило «Петра Первого» Толстого и эту. А «Петра» мне не хотелось. У меня всего одна современная книга, пожалуй. Изображение у Спасского предметно, но не по-ренессансному, а по материалу, осязательно. Я старался это передать. (Заставка к Главе шестой). И здесь мне хотелось «раскупорить» иллюстрацию. Раз надвигается изображение — оно обрезается. Ну, и еще цветовой рельеф, конечно. 26 мая 1961 года Об «Озорных сказках» О.Бальзака С этими работами история была. Гравюры-то потерялись и воспроизводились по оттискам. Ну, заставки и концовки — правильно воспроизвели, а начало — свободно. Титул был у меня с гравюрой — той, что на обложке, только — больше. А вот обложку точно не помню. Вроде как без гравюры, один текст, но, с другой стороны по композиции, вроде, должна быть гравюра. Не помню уж. О «Рассказах» Б.Пильняка Тут еще супер был, там повторялась композиция убийства («Без названия»— Е.Л.). Мне казалось, что в иллюстрациях к Пильняку главное — передача темного, неопределенного чудовища. Вот, в форзаце мне хотелось выразить стихию, да и в переплете тоже. Мне казалось, что Пильняк — ив Европе есть такие писатели — писатель случая, он не пытается из него выйти, а берет один случай, одно происшествие и делает трагедию. У меня сейчас впечатление от этих работ, что я слишком уж разгулялся. Что Вы имеете в виду? Да ведь он, может, и глубже был, чем у меня, я, возможно, и неверно его понимал — я с тех пор не перечитывал. А у меня сейчас какое-то чувство вины перед ним есть. [...] Я хотел, чтобы иллюстрации были декоративными, лаконичными. Теперь для меня самое интересное — концовки. Вот эту иллюстрацию я люблю («Наследники» — Е.Л.). Когда я выставил их — Владимиру Васильевичу Лебедеву понравилось. Рыбка вот эта ничего (концовка к «Speranza» — Е.Л.). А вообще «Speranza» — иллюстрация — отчасти мне чуждая, какая-то смелость тут есть. Вот заставку к «Метели» — эту я люблю. Мне все-таки всегда непонятны были концовки — почему абстрактные фигуры, почему чистый силуэт? Ну, это в какой-то мере — мистика формы. Вот, например, концовка к «Наследникам»,— мне казалось, что ромб играет особую роль в искусстве. Я Пильняку навязал материальность — темную. От этого-то у меня и вина перед ним. Вот форзацем я доволен — и как форзацем, и в какой-то мере он передает это темное искусство, стихию. Вот эта иллюстрация с убийством («Без названия») — это мне нравилось. Из события сделать форму — было интересно. Вот это (концовка к «Без названия» — Е.Л.) — она должна как концовка продолжить горизонталь строк, но при этом — круглая. Выходит нечто неорганизованное. Таким образом, возникает борьба. Вообще-то самое интересное было из происшествия сделать кентавра — вот тут и тут («Наследники» и «Без названия»). Но, может, в чем-то я и огрубил, вот с гадающей девушкой («Мать — сыра-земля»), например. Вы сами выбрали книгу для иллюстрирования или Вам предложили? Да нет, должно быть, сам выбрал. Это как-то Эфрос устроил. В издательстве было собрание, где были и писатели, и художники. Там еще Олеша был и, кажется, Безыменский, они сразу же на всех эпиграммы писали. Никто не хотел выступать, а Юон выступил, они тут же эпиграмму сочинили. Ну вот, на этой почве и состоялась наша «женитьба». А как сам Пильняк относился к гравюрам? Я не помню, чтобы с ним советовался, да и не видел его, пожалуй, ни разу. Тогда это нравилось, говорили — здорово. Но мне кажется, что я его упростил и вот — чувство виноватости у меня теперь. Главное, мне казалось, силуэты, кентавры из тем. А может быть — надо было смотреть более внимательно. Вот в «Наследниках» — это, мне кажется, у него есть — брезгливость к разным вещам, к хламу. Вот в «Командоре» — сначала искал силуэт, а потом выявлял объем. Вынимаешь черное, вынимаешь, вынимаешь и доходишь до какой-то нелепости. Вот и тут, пожалуй («Мать — сыра-земля» — Е.Л.). Мне хотелось, особенно в концовках, передать мистику формы — ну, это я так называю, дать намек на смысл формы что ли. Мне кажется, что дорический рельеф — он ясный: объем проникается пространством; а ионический — там объем идет на вас, а что в нем — неизвестно. Какое-то тело идет, а какое — неизвестно, можно представить разное. Объем, мне кажется, всегда трагичен. Вот, у Тышлера в «Ричарде» и в «Лире» — там трагичность в самой форме, в объеме. У Рембрандта — близь и даль объединяются, а у Пикассо есть композиции, где объемы соприкасаются одной точкой — ив этом трагичность. Нет разрешения, катарсиса — это уж такое его свойство. Ну, вот человек подходит к комнате, объем еще не входит внутрь, еще не освещен — ив этом трагичность. «Труды и дни Михаила Ломоносова» Г. Шторма Титул я взял у самого Ломоносова, у него есть такая композиция. А в иллюстрациях я старался, чтобы в раму входило изображение, чтобы была плоскость и объем оставался. (Стр. 6). Тут я изобразил знаки металлов — уж сейчас я не помню, какие это металлы, и огонь. (Стр. 8—9). Мне все хотелось, чтобы была рамка — и не рамка, чтобы объемность была. Тут материализм 18 века. Его сейчас, Ломоносова, изображают таким диалектиком, а он был наивный. (Стр. 36—37). Меня белое интересовало. Иногда я его обосновывал, а иногда — и не обосновывал. Подкладывал белое для тона, вот как в Толстом*, но там более введено. А так что-то и от старой гравюры приходило. Почему Вы здесь вводили в композицию надписи? Да так просто. У Шторма есть такие словечки необычные, я их и вводил, иногда они мне для белого были нужны. Ведь иллюстрация в книге родственна букве, а так это явственнее подчеркивается. Да я и не только здесь так делал, вот и в «Домике в Коломне». (Стр. 68). Это курительная коллегия. (Стр. 69). А это военщина и профессора. (Стр. 102). А тут он поспорил из-за теплотвора, флогистона: немцы говорили, что окалина тяжелее из-за теплотвора, а Ломоносов говорил — из-за кислорода из воздуха. И тут супруга его является на горизонте. А наверху — это корпускулы, их хорошо изображать. (Стр. 108—109). Это он кукиш «Де сиянс Академии» показывает. А наверху разные предметы из кунсткамеры — крокодилы, младенцы. У одного писателя рассказывается, как Петр с послом одним отправился в Петропавловскую крепость, пошли навестить фрейлину. Она вышла к ним, разодетая, и умоляла ее помиловать. Петр велел ей стать на колени, а сам подмигнул палачу, тот ей голову и отрубил. А Петр голову поднял и показывал на ней анатомическое устройство шеи, а потом велел заспиртовать и в кунсткамеру отправить**. Это я и в форзаце использовал — вот отрубленные головы, такая экспозиция кунсткамеры. (Стр. 146). А это знак флогистона. (Стр. 178). Тут разные казни. А это — восстание (стр. 192). (Стр. 221). Это корпускулы. Тут важно, что все это книжное, все на плоскости. (Стр. 258). Тут надо было фон штриховать. А я вышел из положения таким образом: из-за белого белый штрих как черный смотрится. Красиво получилось. (Стр. 284). А это — доказательство атмосферы на Венере. * Имеются в виду иллюстрации к -«Рассказам о животных» (Прим. Е.С.Левитина). ** Эта история есть и в рассказе Б.Пильняка «Его величество Kneeb Piter Komandor», вошедшем в книгу Б.Пильняка «Рассказы», которую иллюстрировал В.А.Фаворский (Прим. Е.С.Левитина). О «Vita Nova» Данте Мне эта книга нравится, только вот предисловие мне мешало, прерывает оно все. Переплет, мне кажется, хороший. В хороших книгах — когда бумага подобрана, шрифт — получается тело книги, масть, качество плоти, как у человека. Это в немногих книгах удалось — вот Толстой, эта, отчасти «Руфь», «Сонеты». А во многих этого нету. В иллюстрациях — это заложено. Ну, книга эта простая — такой ранний Ренессанс: ясность, простота — простое пространство. Главное — фигуры в пространстве. Портрет пропал. Остался лишь первый вариант, я его сделал, а он мне не понравился, я сделал другой. Вот первый сохранился. Ну, тут — дантовская мистическая девятка. И титул мне нравится. Конечно, надо смотреть все это вместе. Ну вот — Сонет I — это Эрос, страшный Эрос. Здесь все почти в интерьере, кроме второй канцоны. Эта мне нравится больше всех: я тут так закончил улицу, мне казалось, что так — больше сна. А это вот — обугливающееся солнце. А вот концовка не получилась. Она должна быть небесная, а тут слишком вещественная. Первая Беатриче — лучше. Она потерялась. Тут перевод не очень хороший. А как Вы относитесь к статье Эфроса о Вас? Да что ж, интересно. Я ему говорил, что ведь только это не я, не похоже, а он отвечал: когда вы портрет рисуете, вы же не соглашаетесь, что не похоже. Это-де вас не касается, не ваше дело. Ну, может быть. А книга его интересная — о каждом по-своему написать. Вот был вечер Павла Кузнецова, он там доклад делал, так он меня поражал — до чего он знал материал: все фактически, фактически, фактически. Каждый рисунок знал. Нынче так материал не изучают. Почему и здесь, и у Шторма Вы делали иллюстрации на отдельных листах? Ведь белое сзади разрушает ритм книги? Ну и пусть его. Так посвободнее будет. Об «Эгерии» П.Муратова Ну, это муратовская книга, она подражательная, под Франса. Ведь книга вышла, почему же иллюстрации не вошли в нее? Да я уж сейчас не помню. Ведь ее в Берлине печатали, гравюры не дошли. Они по дороге потерялись, а потом их обнаружили. Во фронтисписе я давал белые силуэты как рамки вокруг фигур; большая рамка — и маленькие; белые силуэты как бы путешествуют по плоскости и все собирают. Мне казалось, что черный и белый квадраты, рядом расположенные, особенно по диагонали, начинают двигаться: черное накладывается на белое, белое подкладывается под черное. Это подтверждается дереновским натюрмортом с окном и кувшинами, где под глиняными кувшинами обнажается белое. Всякий тон ведь лежит на белом. Я вот в последних работах контур обвожу легким белым штрихом. Меня вот мои ученики за это ругают. А мне кажется, что получается серебристость, как и в фоне, холодный колорит; из-за этого тон получается теплый, цветной. А здесь я подчеркивал белый контур вокруг фигур, получается обратная перспектива: фигура отрывается от фона, и он выступает вперед. (Сцена дуэли). Вот здесь проведен белый принцип — белое все акцентирует, все заключает в рамы. (Сцена с каретой). Здесь белое — как бы окно в карете и одновременно рама для кареты. Вот, у Гюбер Робера — он как будто очень скучный, не изобретательный — у него всегда либо плоскостно, либо глубоко. У него есть такая маленькая картина «Преследование» — девица и мужчина. Так там отчетливые светлые рамки для фигур — местные рамки. (Сцена с лодкой). Это Стокгольм. Тут у меня всякие эти хитрости, так как я работал здесь черным штрихом. (Сцена с руинами). А это Италия — акведуки. Здесь белое — внизу, и нажим черного на белое. Получается активная встреча. Маленькие — это концовки, большие — заставки. А эта — с розой — общая концовка. В ней — попытка сделать белые листики белым штрихом. Мне кажется, что в «Эгерии» есть что-то близкое к гравюрам к «Руфи». 6 июня 1961 года О «Собрании сочинений» П.Мериме |
