Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
Нельзя ли разъяснить подробнее, почему прежде надо делать полутона, а тени во вторую очередь. Почему не одновременно искать силовое отношение. Я понял так, что не нужно одновременно искать силу света и тени в отношении, а сначала искать полутон, а потом тень. — Тут дело в том, как понимать светотень. Можно понять количественно: это разное количество света и тени; а можно представить иначе, что блик, полутон и тень — это такие разные качества и разные в основном тем, насколько они выражают поверхность предмета. Если брать количественные различия, то мы должны просто лепить переход от светлого к темному; а если представлять себе, что блик заслоняет поверхность предмета и тень заслоняет, то это — как бы нечто воздушное, как бы цвет, лежащий вверху, а полутон — это как бы то, что лежит на поверхности, что дает поверхность. В старой живописи очень интересное отношение блика к полутону. У Рубенса блик сверху. полутона лежит и полутона как такового не существует — это просто слабый свет или слабая тень. Если взять Шардена, Гварди или Пуссена, то у них — как бы полутон поверх блика, а блик из-под него идет. Это есть у некоторых голландцев, в какой-то мере — у Рембрандта, в частности, в офортах это определенно есть. Получается уже, что блик — это масса и тень — масса, а полутон — это поверхность, в которой я могу опереться на предмет. Я не могу сказать, что не нужно отношение между светом, тенью и полусветом. Оно нужно, но, грубо говоря, как бы контур тени делает это отношение к свету, переход от полутона к тени. Когда мы смотрим на полутон на предмете, то мы уже не можем прийти в глубь тени. Мы берем ее внешне, именно как слепящую нас, и только во второй момент я могу войти в глубь тени. Есть в искусстве такой момент: я беру книгу, например. Это форма, скульптура; она оформлена: имеет корешок, фактуру и т. п. Вот я ее открываю, читаю, смотрю рисунки. Это уже второе действие, но книга как предмет не исчезла, она только ушла в прошлое; она в памяти, но она сочетается с внутренностью книги. Есть это и в архитектуре. Например, фасад и интерьер — они сочетаются, но сочетаются в памяти. В картине, мне кажется, тоже что-то должно быть в прошлом, к чему мы можем вернуться, но что будет таким образом подчиняться чему-то главному. Таково, мне кажется, отношение тени к полутону. Можно построить картину и так, что я в тень пойду, как в главное, как в центр, но это необычно. ВОПРОС: Это понятно мне, но есть колебания. Вот в картине человек или предмет, мы ищем сначала тень или полутон? Когда он лежит в картине на своем месте и установился в пространстве, как мы хотим, тогда, для его окончания, мы можем применить тень. Так ли я понял? [-.] Если рисуешь предмет, то, по большей части, в глубину идешь с одной стороны предмета и чаще по световой стороне. В натуре, когда я рисую, я иду, большей частью, по полутонам, а не по теням. В редком случае я иду по теневой стороне. Вот стоит предмет, здесь свет, здесь тень. Я пойду, по большей части, по свету, но, может быть, придется идти и по теневой стороне, тогда я уже буду бороться за то, чтобы она мне дала поверхность, буду бороться с природой тени. И если я буду очень внимательно смотреть даже в бархатную тень, я могу досмотреться до поверхности, как бы увидеть поверхность. Может быть, конечно, случай, когда я поставлю человека и обхожу его с двух сторон. Может быть очень сложное решение, но как тип это будет редко. Поэтому кулисные фигуры в классике, у того же Тинторетто, становились почти силуэтами,— вы их воспринимаете прямо с краю, а вся поверхность как бы пропускается, уходит в прошлое. ВОПРОС: Какое значение для композиции, какие трудности и какие возможные решения возникают в зависимости от количества предметов, находящихся на первом плане, то есть наиболее близких к той картинной поверхности, на которой работает художник? Много или мало этих предметов и в зависимости от этого, каковы возможные варианты, композиции? Может быть, их несколько типов существует? Если взять, например, - ковры, то я читал книгу, где автор насчитывает семнадцать типов ковровых композиций. Возможно, какое-то количество типов композиций можно насчитать по принципу; сколько предметов находится на первом плане? - Конечно, типы композиции есть. Вы знаете, наверное, и помните, есть письмо Пуссена, оно напечатано в книге «Мастера искусств об искусстве». Там интересный намек на то, как он понимал композицию и как работал. Один заказчик обиделся, что он будто бы сделал для кого-то другого картину лучше. А Пуссен пишет, что, в сущности, для того, чтобы судить, лучше ли она, надо понимать, в каком модусе она сделана. И об этих модусах он рассказывает. Есть ионический модус, дорический, и еще несколько он называет. Они у него несомненно сказываются в искусстве. Дорический — это пространственный модус, а ионический — это объемный модус. В архитектуре дорический характер это целое здание, окруженное колоннами, причем они массивны, имеют каннелюры, стоят часто, и когда вы подходите, у вас такое впечатление, что за этими колоннами стена, то есть главное здание. Если взять ионический характер, то там стену окружают колонны тонкие, без каннелюр, колонны, стоящие впереди. Это портик вокруг здания, они идут навстречу вам. Возьмем скульптуру в архитектуре, она тоже может входить очень функционально в архитектуру, а может входить как изображение, отвлеченное от функции. В Египте, например, сфинкс — это и здание, и скульптура. Это совершенно функционально. Вы в него влезаете, как в храм. В ионическом гораздо функциональнее скульптура участвует, чем в дорическом. Фриз дорический — это рельефы довольно большой глубины, заключенные в раму карнизов и триглифов, и их глубина переживается вместе с глубиной самого здания, воспринимаемого тоже по глубине; а ионический [фриз] не имеет вертикального обрамления, он непрерывно идет вокруг здания. В дорическом основой будет передняя плоскость, в ионическом — задняя, фон. Рельеф дорический имеет пространство, в котором эти фигуры живут, а в ионическом они имеют только фон, а живут почти в нашем пространстве. Отсюда разные темы. Можно рассматривать и живопись с этой точки зрения, например, Дюрер — это ионический характер, а Рембрандт — дорический, то есть объемно или пространственно решает художник. И есть еще варианты, о которых Пуссен не договаривает. В живописи это раскрывается по-другому и разные могут быть композиции. Я боюсь, не запутал ли я вас. Об этом нужно самостоятельно говорить, а ссылаться на это трудно. ВОПРОС: Как пользоваться перспективой в композиции? - Мне кажется, что ее нужно знать и забыть. Никаких неграмотностей относительно перспективы не должно быть. Это уже безобразие, если неграмотно. А ее нужно знать и в то же время с нею бороться, потому что она неправильно передает реальность, именно [тогда], когда вы хотите приблизиться к натуре, показать ее с близкой точки. Если я изображаю человека, хотя бы вас, то я должен три ваших роста взять как расстояние от вас и так рисовать. Но когда мы так рисуем? Всегда мы рисуем ближе. И пейзаж тоже ближе рисуем. Это получается так. Если бы я стал изображать эту галерею по прямой перспективе, находясь на этом месте, то в нее поместилось бы очень много картин(такую галерею Фрунзе только может желать), из-за неправильного метода изображения она стала бы больше. В пейзаже с перспективой бороться легче, а в архитектуре труднее. Если вы изображаете рельсы, то они сходятся в перспективе, но, приближаясь к вам, они кажутся сходящимися на вас. А в японских гравюрах доски пола никогда не изображаются перспективно сокращающимися, а изображаются совершенно параллельными, идущими по диагонали. Но если вы посмотрите, то в гравюре вам покажется, что они расширяются. Если вы возьмете уходящие от вас линии и посмотрите в бинокль на них, то они покажутся вам расходящимися. Они на самом деле не расходятся, но если они сильно не сходятся, то кажутся расходящимися. Возьмите изображение человека, например, мантеньевского Христа, лежащего в ракурсе ногами на нас. Там все время борьба с перспективой, все время борьба с сокращениями. Передано то, что нужно: человек лежит в ракурсе и мы его видим и не беспокоимся, что у него ноги так относятся к голове. А если бы точно по перспективе его изобразить, то ноги были бы колоссальными, а голова — маленькой. ВОПРОС: Мне пришлось видеть фотографию человека, снятого с ног. Получается очень неправильно, искаженно. Если следовать этому, будет неверно. — Если вы возьмете метровую обычную линейку, положите перед собой в ракурсе и посмотрите, сколько та сторона в этой укладывается, в проекции, вы скажете — полтора раза, а если мерить, то будет 2,5 раза. Если же так нарисовать, то выйдет линейка в три-четыре метра длиной. Это из-за нашего зрения. Это обусловлено тем, что мы имеем два глаза и смотрим на линейку с двух точек, а также тем, что мы двигаемся. Перспектива — это зрение для одного глаза и с определенной точки. И даже это условно, потому что для глаза, если даже точно взять, то не должно быть прямых, а должны быть кривые — и вертикальные и горизонтальные. 19 сентября 1946 года 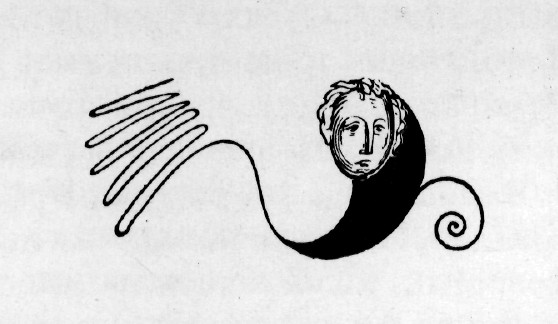 О графике как об основе книжного  I. Вступление Если показываешь кому-нибудь даже из художников, но не графиков, а живописцев, шрифтовую композицию и говоришь о ее пространственной выразительности и о своеобразном цветовом рельефе черного и белого, то по большей части в ответ высказывается сомнение: есть ли тут какое-либо пространство, и часто утверждают, что все это плоско, так как средства изображения очень ограниченны — черные пятна и линии на белой бумаге. Несомненно, что средства графики очень ограниченны. Но, во-первых, нет искусства, сколько-то не ограниченного в средствах, и часто ограничение приводит к обогащению этих средств виртуозным использованием их. В графике есть только черное и белое, но есть линии разной толщины, пятна разной формы, переходы одной формы в другую, контрасты влияния, отношения. Все это дает такую пластичность средствам, что о плоском тут говорить не приходится, и можно, наоборот, поднять вопрос: возможно ли вообще плоское изображение. Действительно, так как любые самые скромные средства, используемые изображением, пластичны, то, по-видимому, плоское изображение не может быть осуществлено. Но в связи с вопросом о плоском изображении невольно ставится вопрос о другом методе изображения, пытающемся уничтожить изобразительную плоскость, возможность которого тоже стоит под сомнением,— о методе, стремящемся довести иллюзию до крайней степени, до обмана зрителя. Такое изображение, которое можно назвать иллюзионистическим, по-видимому, возможно только как тенденция, осуществимая при сильном желании зрителя обмануться и при сложной обстановке, как это обычно в панораме или диораме. Итак, есть попытка утвердить два как бы противоположных метода: плоское изображение и иллюзионистическое, уничтожающее плоскость. Но метод классического искусства всех эпох, искусства разно-образного и сложного, никогда не пользовался ни плоским, ни иллюзионистическим изображением, никогда не стремился уничтожить плоскость, а всегда пользовался изобразительной плоскостью и, строя глубину, создавая планы или строя объем, пользовался ею как основой и пространство выражал, хотя бы и очень сложно, но как рельеф: либо идя от плоскости в глубину, как это делали Тициан, Рембрандт и другие, либо — как объемы на плоскости, как Дюрер. И так поступает все классическое искусство, начиная с вазовой живописи греков и кончая итальянским Ренессансом, барокко и в какой-то мере некоторыми школами 19 века. Во всех этих произведениях плоскость сохраняется, конечно, по-разному. В древнем восточном, в русской иконописи она очень конкретна, сильно выражена цветом и мало углублена. А, например, в вещах Высокого Ренессанса она звучит только как первый план фигурных групп и создается либо касанием фигур, либо их силуэтами. Плоскость выражена всюду по-разному, но всюду входит как основа изобразительного метода и всюду углублена. Все эти методы изображения, как бы пространственно выразительны они ни были, могут быть названы плоскостными. Они все по-разному сохраняют плоскость как основу изображения — иногда как первый план, иногда как задний. Но всегда такое изображение будет и пространственным, хотя и плоскостным; и возможно утверждать, что плоскость, то есть включение в изобразительный метод плоскости как основы, и дает изображению возможность быть пространственно выразительным. Иллюзионистическое же изображение, стремясь уничтожить изобразительную плоскость, отбрасывает ее как основу построения пространства и, не будучи в состоянии ее совсем уничтожить, оставляет спор между иллюзией и плоскостью не решенным, спор, который и сам зритель не может решить. Можно утверждать, таким образом, что иллюзионистическое изображение невозможно. Но возможно ли антиподное ему плоское изображение? Даже геометрический чертеж, положим, квадрата, круга или другой формы, будет не плоским, поскольку качества черной линии как существенно материальной и белого фона как воздуха сделают изображение предметным и тем самым сколько-то рельефным, а всякое силуэтное изображение, пользующееся разным количеством черного и белого, обязательно нарушит плоскость, но, будучи организовано как плоскостное рельефно-пространственное изображение, в меру пластичности своих средств будет пространственно выразительным. Между прочим, тенденции иллюзионистического и плоского изображения как бы ходят в паре; эпоха, стремящаяся в станковой живописи к полной иллюзии, орнамент, например, считает плоским изображением. Но, по-видимому, ни то, ни другое изображение не может быть осуществлено, потому что или отбрасывает основу изображения — плоскость, или рабски подчиняется плоскости и не признает пластических качеств за ограниченными средствами орнамента и графики. Возможно только плоскостное изображение, и оно будет всегда, так либо иначе, пространственным. П. О бумажном листе как изобразительной поверхности В искусстве встречаются разнообразные изобразительные поверхности. Они могут различаться по форме, как, например, керамика — кувшины, вазы, чашки, тарелки; текстиль — материи для мебели, для стен, для драпировок, для платьев, дающие разнообразные складки; поверхности архитектурные, где мы встречаем колонны, апсиды и прямые стены; и изобразительные поверхности станковой живописи и графики, которые не будут давать складок, не будут вогнутыми или выпуклыми, а будут прямыми плоскостями. Геометрическая форма изобразительной поверхности будет, конечно, влиять на метод изображения: тот же сюжет мы иначе изобразим на шаре, или на цилиндре, или на вогнутой поверхности, или на ограниченной вертикальной и горизонтальной границей плоскости, и даже иначе на квадратной, или на удлиненной вверх, или вытянутой горизонтально поверхности фриза. Изобразительные поверхности могут еще различаться тем, насколько они выразительны по массе — производят ли они впечатление тяжелых, и их поверхности ограничивающих, как бы напряженно сдерживающих массу. Тут будет влиять и скульптурная поведенность поверхностей, но и плоскости тоже могут быть по-разному выразительны в смысле массивности. Например, лист бумаги, кусок холста, деревянная доска или стена, ограниченная карнизами, пилястрами и обломами, будут тоже различны в смысле выражения массивности, и это все будет влиять на изображение, на изобразительный метод. Представим себе, что мы задумываем какой-либо глубокий, со множеством планов пейзаж на квадратном куске картона толщиной в полсантиметра; и затем допустим, что этот картон начнет утолщаться, будет все толще и толще, и, наконец, наш картон станет как бы одной стороной куба. Как тогда наш замысел с его глубиной — будем ли мы на нем настаивать или массивность куба будет протестовать против такого решения и нам все изображение придется перестроить и пространство построить более сжатое и неглубокое (но тут опять надо помнить — как бы мы ни сжимали глубину, никогда изображение не может быть просто плоским). Изображение должно преодолевать массивность изобразительной поверхности, и это возможно в ее центре, там она может быть побеждена пространственностью и глубиной изображения; к краям массивность поверхности побеждает, изображение становится невольно более плоскостным, а на краях глубина как бы совсем гаснет. Это то, что мы в бумаге называем полями, но что живет и в иконной доске и в стене. Здесь мы встречаемся с принципом рамы, которая невольно сама возникает в споре нашего пространственного изображения с объемностью и массивностью предмета, который мы избрали как изобразительную поверхность. Край доски как бы становится рамой, но такая естественная рама как бы характеризует всю поверхность как массивную, поэтому изображение на такой поверхности будет не очень глубоким, так же и в фреске. Но существует и особый вид собственно рамы, когда мы объемно выразительной формой закрываем край изобразительной поверхности и тем самым лишаем ее массивности. Так поступаем мы с холстом в станковой картине. Если мы бы взяли холст как он есть, не ограничивая его рамой, как это делается в коврах, и изображали, то материал, как бы тонок он ни был, не допустил бы особенно глубинного изображения. Тут, между прочим, действует и то, что мы не можем забыть о двусторонности холста, и она мешает нам строить глубину. Но если мы края холста, натянутого на подрамок, закроем рамой скульптурно выразительной, то мы как бы лишаем холст всякой массивности и прячем другую сторону и создаем таким образом изобразительную поверхность, отвлеченную по массе, на которой поэтому возможно наиболее иллюзорное изображение с большой глубиной (но тем не менее в классике плоскостное). Так происходит в станковой картине. Таким образом, можно определить роль рамы в изобразительном искусстве: рама, ограничивая изображение, усугубляет внутрь пространственную глубину и создает как бы замкнутый мир, а наружу делает изображение вещью, предметом другого пространства, в станковой картине — предметом интерьера, можно сказать, мебелью, живущей наряду со стульями, столами и т. п. Это — что касается станковой картины. Но этот принцип рамы может действовать и в других обстоятельствах. Можно, например, говорить о книжном пространстве, определяемом шрифтом и его пространственным рельефом; и тогда какая-либо иллюстрация, ограниченная рамой и организованная внутрь как пространственный мир, наружу, то есть относительно шрифта, станет предметом книжного пространства. Но об этом подробнее нужно будет сказать, когда будем говорить о книге. Сейчас же остановимся на листе как графической изобразительной поверхности. Если толстая, хотя бы иконная, доска будет иметь шесть сторон, то лист бумаги для нас только двусторонняя форма; но тем не менее всегда, как бы тонок он ни был, он будет сколько-то массивен, и его края, особенно когда они литые, будут очень сильно выражать массивность края, как и при более или менее толстой бумаге, при золотом обрезе и меньше при простом [обрезе] и при тонкой бумаге. Все это будет определять поля, и не только для иллюстрации, но и для текста, так как текст, будучи контрастным в черном и белом, будет пространственным и потребует того, чтобы двусторонность листа забывалась, чтобы мы отвлекались тем самым от предметности листа и его массивности и спокойно могли углубляться в изображение. Как и с холстом в станковой картине, с листом может быть поступлено так же, когда мы при помощи паспарту лишим его края и тем самым — массивности. Но, конечно, пластика листа выявится больше всего в том случае, когда мы имеем дело с эстампом, с каким-нибудь чудесным офортом Рембрандта, когда, держа в руках чудную голландскую бумагу с литым краем и ощущая пальцами ее фактуру, мы глазами и душой погружаемся в изображенный пространственный мир и странствуем в нем, и тем это чудеснее, что в руках у нас просто лист бумаги, напоминающий краями о том, что это двустороняя тонкая вещь. Это чудо, когда мы держим в руках вещь и углубляемся в изображенный мир, придает созерцанию художественного произведения особенную прелесть. Конечно, играет роль его фактура и цвет листа. То, что цвет часто не отвлеченно белый, а с каким-либо оттенком, это дает цветовым отношениям особую тонкость. Книжный же лист входит составной частью в книгу, но об этом в другом разделе. III. О цвете и о черном и белом В графике значение черного и белого очень большое; шрифт, иллюстрации выполняются черным по белому, и кроме того переходы от цвета к цвету совершаются большей частью не разбелкой черного, но моделировкой формы черного и белого, формой пятна, точкой, линией, штриховкой. Относительно всякого цвета можно утверждать, что его зрительно видимая форма большей частью не совпадает с осязательной. То есть плоское пятно, закрашенное каким-либо цветом, часто не видится как уж очень плоское, а иногда цвет может сильно мешать увидеть форму поверхности, которую он окрашивает. Цвет только в некоторых случаях четко характеризует поверхность, на которой он лежит; а большей частью он будет восприниматься как цветовая масса, сколько-то рассеивающаяся в воздухе, иногда цвет даже как бы ложится на глаза. Но цвет пластичен, то есть мы можем по-разному его рассматривать. Мы можем позволить ему быть воздушным и даже как бы лечь на глаз, а можем, наоборот, дожать его до поверхности, на которую он нанесен. Некоторые цвета легко дожимаются и плотно лежат на поверхности и, наоборот, трудней представить их как воздушные, например, коричневый, тепло-серый, некоторые из красных, например, кирпично-красный. Другие же, наоборот, очень трудно дожать, как, например, голубой, или ярко-синий, или фиолетовый. В данном случае, конечно, влияет атмосфера — это особенно сказывается в туманную погоду. Но ведь цвета и мы живем в воздушном пространстве, и это нужно учитывать. Итак, цвета имеют разные качества, но большей частью все цвета пластичны, и, когда мы их используем с некоторой изобразительной тенденцией, то тот же цвет может быть и предметным и пространственно-воздушным. Одно время часто встречалась книжная обложка, деленная пополам вертикально, причем одна половина черная, другая — красная, и цвет к цвету примыкает вплотную, и граница между ними прямая. Вот и в данном случае сказалась вера художника в плоское изображение, дескать, два пятна разного цвета должны лежать на одной плоскости; но это не может получиться, поскольку между цветами качественное различие; и кроме того, всегдашний наш предметно-пространственный подход потребует от нас решения — какой цвет лежит впереди, а какой — сзади, какой тут цвет, черный или красный, выражает предмет и какой изображает воздух, пространство. И вот мы решаем, что черный цвет предметный, а красный — воздух. Тогда черный в силу своей пластичности дает нам свои предметные качества, а красный в силу этого же изобразит нам воздух, атмосферу, с ее характерной чертой рассеиваться в разных планах, как бы пытаясь быть нигде, быть везде. Но стоит нам присмотреться, как наше мнение меняется, и мы красный берем как предмет, а черный — как пространство, и они изображают новую пару, и опять каждый цвет дает нам новые свои качества для характеристики противоположного решения. Этот спор можно окончить, только если мы изменим границу между цветами и выразим в ней, что один цвет лежит на другом; это решит отношение цвета к цвету, сделает сверху лежащий предметным, а лежащий внизу — воздухом, пространством. Между прочим, можно и уравновесить два цвета; для этого нужно оформить между ними границу так, чтобы то один, то другой как бы находили друг на друга, то один то другой был как бы впереди; это будет волнообразная линия, или зубчатая, или сложней, и она выразит равновесие цветовых пятен (тогда решение будет не плоским, а плоскостным). Из этого можно вывести, что во всех цветовых композициях, во всех случаях с цветом очень важное значение будет иметь форма цветового пятна и какой фон оно имеет, на каком цвете лежит. И действительно, разве можно представить себе пятно цвета, не лежащее на* другом цвете? И вот цвет будет меняться в зависимости от того, какой формы будет пятно, насколько эта форма будет характеризовать пятно как предметное, а не как отверстие в другом цвете, и какое качество поверхности придает форма пятну цвета. Будет ли это пятно квадратным, или круглым, или треугольным, или еще каким-либо сложным — это будет влиять на отношения цветов. И, например, коричневый фон и голубые пятна или, наоборот, голубой фон и коричневые пятна дадут совершенно различное впечатление, если даже количество того и другого цвета будет более или менее одинаково. И даже если тот же коричневый будет в одном случае с круглыми пятнами голубого, в другом — с квадратными, то это даст значительное различие в характере восприятия. В живописи мы можем наблюдать, как мастер иногда, чтобы выявить нужные качества в цвете, придает пятну, изображающему предмет, форму, предмету как бы не свойственную. Так, например, у Гварди белое облако на голубом небе положено так, что оно как бы одним краем уходит под голубой цвет, что делает этот голубой цвет крепче. Но если в живописи форма пятна имеет значение, то в графическом искусстве — тем более. Графическое искусство, ограниченное по большей части в своих средствах черным и белым, ставя их в различные отношения друг к другу, добивается именно при помощи формы пятен разных качеств от черного и белого. Мы как бы можем говорить о квадратном цвете, о круглом и т. д. При помощи формы пятен мы можем достигнуть тяжелого черного, лежащего выпуклым пятном на белом, черного уплощенного, характеризующего плоскость, черного, дающего глубину, и черного воздушного. В белом градаций меньше: белое массивное и белое воздушное. Сухого белого, лежащего крепко на поверхности, добиться трудно. Если на бумагу прольется черная тушь, то лужа будет растекаться и где-то будет заливаться на бумагу, а где-то бумага ее не пустит. Получится картина как бы борьбы суши с морем; мы будем чувствовать тяжесть туши, как тяжесть воды, и сопротивление бумаги, как берегов (рис. 1 А). В силуэте такого пятна местами победит черный, местами — белый цвет; то тот, то другой будут массивны, но такое пятно мы всегда воспримем как лежащее на белом. Черный квадрат или круг могут быть восприняты нами как лежащие на белом и как отверстия „и от нашего решения будет зависеть, как мы воспримем цвет — как дающий нам в квадрате плоско выкрашенную поверхность, а в круге — массивную каплю черного или как воздушный цвет черного провала, по-разному клубящийся в темном отверстии (рис. 1 Б, В). Но стоит нам закруглить углы квадрата или пририсовать к углам тонкие короткие прямые, как будет очень трудно представить их дырками (трудность будет характеризоваться тем, что мы должны мысленно представить себе ключ от этого отверстия, и только как бы всунув его, мы сможем представить пятно как дырку). Черный квадрат с закругленными углами даст нам массивный цвет. Потому что он моделирует край пятна (рис. 1 Г). Черный квадрат с черточками на углах даст нам более легкий цвет, лежащий плотно на поверхности и в силу контраста с тонкими линиями даже уходящий в глубину, но не проваливающийся, а дающий как бы пространство, углубляющий поверхность (рис. 1 Д). Треугольники черные с прямыми границами или тем более с вогнутыми будут восприниматься по преимуществу как отверстия, как черные провалы и будут давать материальность и массивность белому, окружающему их (рис. 1 Е, Ж). Можно создавать разной формы пятна: с одной стороны — массивные, с другой — тонущие как бы в белом и тем самым придающие белому в этом месте массивность. Решающим моментом будет тот, что на чем лежит. Если мы возьмем две гравюрные доски, круглые или овальные, и награвируем на них линии, черно-белую штриховку, но в одном случае белые линии будут подходить к краю пятна, но не прорывать его, а в другом — штихель прорежет края насквозь, то мы получим таким образом: в одном случае черные линии на белом, в другом — белые на черном; количество черного в первом случае будет немного больше, но как раз первый пример будет белее, ярче по белому, чем второй, так как белое будет явно лежать на верху черного. Словом, мы достигаем малым изменением двух совершенно различных цветовых пятен (рис. 2 А, Б). И в данном случае можно говорить как бы об изображении теплого и холодного цвета. Стоит обратить внимание на параллельную штриховку в различных ее видах. Перед гравюрой и вообще перед графикой часто стоит задача при помощи линий дать плоскость, или поверхность. Причем дать ее возможно убедительнее — не как модель, не как чертеж, а как образ. Горизонтально наштрихованные линии дают скорее тон, чем вертикально наштрихованные. Но если мы штрихуем линии, например, подобно тесной волюте, то таким образом мы получаем поверхность почти осязаемую, не распадающуюся на линии и дающую как бы пятно. Еще опыт: если мы нанесем на белую бумагу перекрещивающиеся линии, как бы решетку, то эта решетка будет очень предметна, а белое вокруг нее и под ней будет совсем не массивным, а легким, воздушным (рис. 2В). Но если мы очертим вокруг по белому, на некотором расстоянии от решетки, черный контур с небольшим нажимом, тогда белое под решеткой и вокруг станет массивным, а черное пятно штриховое как бы будет углубляться, особенно в центре (рис. 2 Г). Получится впечатление, что пятно теплого тона положено на холодный цвет, теплый цвет идет в глубину, а холодный ему сопротивляется. В связи с этим можно обратить внимание на черный контур, который, замыкаясь, даст внутри себя сколько-то массивный белый (рис. 2 Г); и тот же эффект отчасти будет у волютообразной кривой, изгибающейся в разных направлениях (рис. 3). Там, где линия загибается, она как бы пытается охватить массу, и там белое будет массивно, а на другой стороне — нет. Но стоит ее перечеркнуть маленькими линиями, и уже массивность белого пропадет. Линия перестанет напоминать контур, станет предметной, вещественной. Итак, графика и гравюра, ограниченные в средствах всего двумя цветами, изменением формы пятна и сопоставлением и наложением цвета на цвет, добиваются большого разнообразия и даже богатства отношением черного к белому, изображают и тяжелые и легкие цвета, и теплые и холодные и даже передают как бы и голубые, и красные, и разбеленные, и глубокие цвета. IV. Об основных пространственных линиях, о вертикали и горизонтали Во всех пространственных искусствах — живописи, скульптуре, архитектуре, книжном искусстве — большую роль играют основные пространственные координаты или основные направления. Пространство земное, в котором живет человек, очень сильно характеризуется вертикалью и горизонталью, вертикальным стоянием человека на горизонтальной поверхности земли, тяготением, стремлением растений, деревьев вверх, борьбой их и человека с тяжестью. Отсюда и в искусстве громадная роль вертикали и горизонтали и использование их в построении художественных форм. В архитектуре — колонна и балка, пилястр, карниз и фриз, вертикали и горизонтали окон и дверей; вертикали и горизонтали в живописи: в сюжете — вертикали людей и горизонталь земли, вертикали и горизонтали как оси композиции и симметрии и прежде всего как типичное вертикальное и горизонтальное обрамление; в книге — горизонталь строк, вертикаль столбца и штамбов (стволов) букв. Всюду, как в практической жизни человека, так и в искусстве, как действующие лица действуют вертикаль и горизонталь, и поэтому стоит обратить внимание на их характер, на их содержание. Горизонтальная линия есть образ нашего движения вокруг собственной вертикальной оси при рассматривании горизонта или нашего движения вокруг чего-либо вертикально стоящего. Отсюда линия может быть для нас горизонтальной, будучи прямою только в проекции, в нашем горизонте, а на самом деле — хотя бы окружностью, нас окружающею, и тем самым горизонталь может быть замкнутой, и движение по ней будет движением бесконечным и равномерным, все ее куски будут соизмеримы. Вертикаль же должна быть вертикалью со всех сторон; и отсюда не может быть замкнутой или бесконечной; она должна быть ограничена, и так как она рассматривается в разных условиях (низ ее и верх — нужно подымать и опускать голову), то ее части несоизмеримы, они разной цены. Например, если мы хотим разделить линию пополам, то нам придется поставить ее относительно нас в горизонтальное положение, чтобы все ее части были в равных условиях. Если же мы попробуем разделить пополам вертикаль, то мы ошибемся, деление поставим ближе к верху, то есть преувеличим значение верхнего отрезка и поэтому уменьшим его, а нижний — увеличим, так как труда на его рассмотрение затратим гораздо меньше. Следовательно, вертикаль на ее протяжении не будет одинакова, а будет изменяться в своей ценности. Большинство форм, с которыми мы встречаемся в природе, будут выражать какое-либо движение. Особенно это можно сказать про растения, деревья и их ветки. Изящество деревьев, растений, цветов основано прежде всего на движении. Ель или сосна по-разному, преодолевая тяжесть, стремятся вверх, но каждая из них — и обелиск ели и канделябр сосны — выражает сложное движение; а ветви деревьев: еловые ветви или сосновые, березовые или липовые — все они очень выразительны в движении и в смысле характера движения. Если мы проанализируем строение тех линий, которые выражают движение растений, птиц, животных, мы должны будем заметить, что кривые линии и особенно неравномерно кривые будут больше выражать движение, чем прямые или куски окружности, то есть равномерно кривые. Всякую линию, и кривую и прямую, мы можем представить себе как остановившуюся и как двигающуюся, но прямую легче остановить, а кривую гораздо труднее (трудность выразится в том, что прямую мы и остановленную не будем особенно материализировать, а кривую мы должны будем представить как бы материальной, например, проволочной, и только тогда остановим). Прямая линия если и выражает движение, то равномерное и довольно быстрое, а неравномерно кривая будет моделировать движение, почему оно и будет заразительным — будет то ускоряться, то замедляться. На выпрямленных местах движение будет ускоряться, на закруглениях, как на виражах, будет замедляться; волюта даст постепенное замедление движения, как бы никогда не кончающегося. Итак, в кривых, когда мы их воспринимаем двигательно, мы встретим и выразительность и плавность, а при остановке их изгибы потеряют всякий смысл. Вернемся к прямым линиям. Из них горизонталь большей частью выражает равномерное, возможно, бесконечное движение, и если мы бы хотели ее остановить, то должны взять отрезок горизонтали. И интересно то, что остановленная линия сейчас же обратит наше внимание на внутреннее свое строение. Пока мы будем воспринимать линию как отрезок, мы будем ее брать как бы с внешних концов, а как только мы обратим внимание на е.е тело, то мы естественно начнем искать там центры тяжести, которые как бы построили ее внутри и определили ее характер. Естественно найти центр в горизонтальном отрезке посредине, но можно представить себе и два фокуса, находящихся недалеко от концов (рис. 4 А). Фокусы эти должны быть симметричны; интересно то, что удаление этих фокусов от концов к середине будет влиять на масштаб этой линии и как бы на размер этих фокусов, на их тяжесть (рис. 4 Б). Если рассматривать эти линии отдельно друг от друга и обратить внимание на их масштаб, то первая из них будет как бы длиннее и монументальнее, а другие все как бы короче, и если их сравнивать в том же масштабе, то первая будет тоньше и легче, а следующие — тяжелее, и фокусы их приобретут больше веса, приближаясь к центру. Если проделать этот опыт с вертикалью, то нам не нужно брать отрезок, вертикаль может быть очень большой, но будет всегда ограниченной. В природе и в искусстве мы наблюдаем два типа внутреннего строения вертикали. Возьмем опять-таки ель, ее выражающую быстрый рост форму, то же мы заметим во многих других растениях, но и в архитектуре — в колонне, в столбе, в обелиске, в пирамиде, так же — в вазе, в кувшине и во многих других формах. Такая вертикаль выражает рост, и если мы хотим оформить как вертикально стоящую форму стену, то мы дадим ей панель и карниз, то есть дадим два весовых фокуса — нижний больше, а верхний меньше (рис. 5). Такое расположение фокусов даст линии движение, ускоряющийся рост вверх, причем и тут, как и в горизонтали, фокусы могут соответственно удаляться и приближаться к концам и от этого будет меняться масштаб линии — она будет изображать то очень тонкую и высокую форму, то приземистую. Такая вертикаль — в кувшине, в вазе, в колонне, в балясине и т. п. Но предположим, что мы бы захотели повесить на стену картины или написать на ней фреску. Тогда мы выбрали бы другое место — не вверху, не внизу, а как бы на месте груди этой вертикальной формы. Тогда вертикальная линия определится одним фокусом, расположенным в верхней части ее, и этот центр вертикали будет уже не весовой, не центр тяжести, но зрительный центр. Причем некоторое изменение места этого центра, то есть повышение его или понижение, будет, так же как в горизонтали, менять масштаб данной вертикали (рис. 6). Например, начинается ряд [вертикалей] очень высокой и относительно тонкой и постепенно переходит к приземистой и более массивной. Причем, когда вертикальная линия или, вернее, вертикально строящаяся форма получает такой зрительный центр, который объединяет всю форму, то тем самым эта форма как бы получает глубину — это зрительный центр, это глубина. В архитектурных вертикальных формах, таких, например, как башня, по большей части сочетаются обе вертикали — вертикаль роста и вертикаль зрительная. Например, Спасская башня нашего Кремля. Надо еще сказать, что такая вертикаль имеет уже определенный рост и увеличить ее или уменьшить нельзя. Ее рост и все ее точки определены ее внутренним строением, и, кроме того, она является наиболее композиционной линией. Всякую линию мы берем как бы через движение, а ее мы воспринимаем как бы сразу. Причем это не значит, что вертикаль для нас совершенно неподвижна, но движение ее или наше, при ее восприятии, так организовано, так сложно и вместе цельно, что мы легко воспринимаем ее как будто без движения. Стоит еще сказать несколько слов о диагонали. В итальянском искусстве эпохи Ренессанса диагональ часто используется как композиционная линия, особенно у Тинторетто. Обычно на ней, большей частью на правой диагонали (диагоналей две — идущая снизу вверх направо и обратная), строится у него ряд сюжетов, которые, начинаясь с главного и более крупного налево внизу, но не у самого ее конца, располагаются по ней вверх направо, все уменьшаясь; например: борьба Георгия со змеем, дальше царевна и затем в небе звезда. Такая форма для диагонали характерна. По ней идет восходящее движение вверх направо, все ускоряющееся и как бы ракурсирующее, уходящее в глубину. Если мы представим себе пару диагоналей, левую и правую, то их движение может быть обусловлено нашим движением, как, например, в европейском шрифте, когда мы левую возьмем как диагональ падения, а правую — как диагональ подъема. V. О книге Книга — это, с одной стороны, техническое приспособление для чтения литературного произведения; с другой стороны, она есть пространственное изображение литературного произведения. В этом книга очень похожа на архитектуру — и здание строится для жилья, для практического использования, но тем не менее становится искусством, а верней — не тем не менее, а тем более, так как и в книге и в архитектуре функция не мешает, а помогает, дает стимул для пространственного пластического оформления. Сходство между архитектурой и книжным искусством находим мы и в том, что и архитектурный памятник и книгу мы воспринимаем во времени. Книга, являясь пространственным произведением, изображающим литературное произведение, естественно располагает свои элементы во времени, организуя наше движение, ведя нас согласно содержанию книги от момента к моменту. Но если считать, что задачей книжного изображения было бы только возбуждение движения, то можно было бы представить себе однострочную книгу, как бы моток длиннейшей строки, который мы бы разматывали и таким образом читали. Это могло бы быть механизировано хотя бы при помощи кино. Но, читая такую однострочную книгу, как бы идя по узкой тропинке все дальше и дальше, легко ли было бы нам даже мысленно вернуться назад. Ничто нам не помогало бы в этом, ничто в пространстве не отмечало бы начал, концов, частей литературного произведения, и поэтому перед книгой стоит задача не только возбудить движение, чтобы читателя книга посылала бы все вперед и вперед, но и организовать это движение членениями при помощи остановок. В этом большую роль играет книжная страница. Преимущественный формат наших книг — это более вертикальный, чем горизонтальный. Горизонтальный редко используется, а вертикальная страница содержит вертикально строящийся столбец из горизонтальных строк и тем самым как бы преподносит нам сразу целый клубок строк, объединенный вертикальной осью; мы можем его разматывать, то есть читать, но можем сразу увидеть и начало и конец всего текста, видим всю страницу сразу со всем узором красных строк. Еще больше мы получаем, когда примем во внимание разворот страниц левой и правой, здесь уже целый отдел текста с большим содержанием, которое излагается на наших глазах. Страницы и составляют книгу, и то, что они проходят перед нами, сменяя друг друга, сходные по формату и по столбцу текста, и составляет, собственно, и механику книги и ее метрическую основу, необходимую для организации движения, для организации остановок, чтобы читатель мог осмотреться, задержаться, припомнить то, что прочитано. Книга, организуя движение, организует и память, связывает одни страницы с другими, напоминает о начале и т. п.; и как в архитектурном интерьере память о входе, вестибюле, ряде комнат дает нам целое внутренности архитектуры, так и в книге все ее части: переплет, форзац, главный титул, шмуцтитулы, спуски, отдельные страницы, заставки, концовки, иллюстрации — все это вместе и организует движение, и отмечает начало и конец этого движения, и членит его, и, устанавливая остановки, дает им разную значимость, разное содержание и в то же время создает в нашей памяти сложное, но цельное представление этого пространственного изображения литературного произведения. Пройдем по книге, по ее деталям. |
