Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
Глава I Иван Иванович и Иван Никифорович Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты, пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них,— особенно если он станет с кем-нибудь говорить,— взгляните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи боже мой! Николай Чудотворец, угодник божий! отчего же у меня нет такой бекеши! Он сшил ее тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? та самая, что откусила ухо у заседателя. 3. Униженные и оскорбленные Роман в четырех частях с эпилогом Часть первая Глава I Прошлого года, двадцать второго марта, вечером, со мной случилось престранное происшествие. Весь этот день я ходил по городу и искал себе квартиру. Старая была очень сыра, а я тогда уже начинал дурно кашлять. Еще с осени хотел переехать, а дотянул до весны. В целый день я ничего не мог найти порядочного. Во-первых, хотелось квартиру особенную, не от жильцов, а во-вторых, хоть одну комнату, но непременно большую, разумеется вместе с тем и как можно дешевую. Я заметил, что в тесной квартире даже и мыслям тесно. Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперед по комнате. Кстати: мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деде писать их, и, право, это было не от лености. Отчего же? У Достоевского герой начинает говорить о своем нутре, о настроении, о вкусах, о болезни; он вводит в пространство своих нравственных переживаний. Пушкин — иначе, он делает крайне объемные скульптурные рамы: это предисловие издателя, ответ наследницы, письмо друга и т. д. Тонкая ирония делает все это еще предметнее. Этим Пушкин опредмечивает весь предмет наружу и тем объективирует повести и делает их предметно действенными, где отношение предмета к пространству определенное и в то же время сложное. Можно говорить здесь об ампире, причем Пушкин как бы увлекается его стройностью и ясностью и в то же время тонко иронизирует. У Достоевского начало сразу вводит меня в пространство чувств героя. Все произведение тем самым оказывается нравственно-пространственным, где герой — то предмет, то пространство, мы — то во внешнем, то во внутреннем мире героя, но главным образом во внутреннем. И отсюда явное желание субъективировать героя. Или это Достоевский, или это я, читатель, чего совсем нет у Пушкина. У Гоголя началом является бекеша, нарочитый предмет, мы можем сказать, что начало у Гоголя натюрмортно и в то же время лично. Это и характерно для натюрмортного восприятия. Вот вещи — берите их сами, и Гоголь их сам видел и рассказывает нам непосредственно. Предметность доведена до предела: «Николай Чудотворец, угодник божий! отчего же у меня нет такой бекеши!» Мне кажется, на этих примерах можно выяснить, что предметно-пространственная форма произведения очень сложна и разнообразна и в своей цельности дает нам стиль и мировоззрение автора и эпохи. Стиль греческого искусства, стиль готики, ампира, барокко — разве это не мировоззрение и разве это не предметно-пространственная форма, отношением предмета к пространству выражающая мировоззрение? О стилевых типах можно сказать следующее: эпос с профильным изображением героя и с двухмерным бесконечным пространством рока, судьбы, несоизмеримой с героем. Рационалистическая повесть, роман со скульптурно-объемным героем-предметом, живущим в пустоте пространства, оформленной только предметами и его действием, его активностью, создающей фабулу, приключение, действие. Романтический роман с героем, живущим в своем, характерном для него пространстве, часто как бы продолжающем или отражающем его внутренний мир, или в противоречащем ему пространстве, имеющем свой строй, оформленный не только предметами, но и своей структурой, своим тоном, своим настроением, своеобразными волнами, причем герой в центре его и борется с ним. Возможен и натуралистический уклон, где пространство становится средой, даже погодой, а предмет — пятном на этой погоде, сгустком атмосферы, или где нутро героя становится психологической массой как внешнее ощущение автора и мы имеем как бы искусство фактуры. Может быть тип, где предмет и пространство в конечном решении уравновешены, где предмет, не теряя предметности, становится пространственным и где пространство, не теряя своей непрерывности,— не пустота и не масса, а строй, имеющий масштаб. Это классика. Пушкин, Пуссен. И, наконец, можно наметить тип крайне предметный, где мы подводимся к самому предмету, с нами разговаривают, к нам обращаются, перед нами сидят, как это бывает при рассказывании: «не любо — не слушай, а врать не мешай», и сам герой персонифицирован в рассказчика. Перейдем теперь к книге. Следовательно, в реалистической книге стилевая тема данного произведения и будет тем, что в первую очередь должно быть изображено всей книгой — шрифтом, макетом и иллюстрацией. Тот строй, который скрывается в самой фразе произведения, в отношении подлежащего к сказуемому, выражается пространственным искусством как предметно-пространственный строй. 8. Теперь перейдем к практическому вопросу: какие случаи изображения книгой литературного произведения мы имеем. 1) Мы можем встретиться с нехудожественным произведением, с прозаическим, например, философским трактатом, статьей по научным, хотя бы экономическим, вопросам, хроникой, очерком и т. п., тогда перед нами может встать задача художественно их изобразить, но отнюдь не в украшенческом порядке, что явится только помехой для чтения. По-видимому, вскрывание мировоззренческого момента в подобных произведениях и дает нам основу для построения стиля, выражающего данное произведение. Поэтому только мировоззренчески активное и выраженное может получить стиль и художественное изображение, все остальное может быть только внешне приведено в порядок. Мне кажется, что всякое мировоззрение в своей цельности будет иметь скрытый свой предметно-пространственный строй. 2) Мы можем иметь другой случай, когда, имея пред собой художественное словесное произведение, мы как бы копируем его в другом материале. Но копия может быть механической и может быть художественной, где, анализируя конструкцию копируемого произведения, поняв его художественную суть, поняв, конечно, по-своему и с ударением на том, что для нас сейчас понятно и реально, мы эту суть и передаем. Такую копию мы встречаем в художественном мире, например, копии Мане с Веласкеса, Рубенса с Микеланджело и другие. Но особенно аналитична такая копия, особенно она раскрывает художественную структуру копируемого произведения, когда мы копируем в другом материале, например, живопись — в гравюре черным и белым, живопись — в скульптурном рельефе и т. п. В книге как раз имеем такой случай, когда стилевую форму литературную мы воспроизводим пространственной формой. Копия особенно интересна в отношении к классикам, здесь формы художественные, ощущенные временем, а иногда и им заслоненные, могут быть таким методом особенно интересно вскрыты, с новой стороны, в новом аспекте. И как раз в воспроизведении классиков мы очень часто встречаем пассивную копию, которая пытается механически воспроизвести стиль и тем самым этот стиль совершенно убивает. Стилизация, по большей части, раскрывается в своем неорганическом отношении к материалу, совершенно не соответствующем воспроизводимому стилю. 3) В-третьих, может быть произведение, которое, обладая современным жизненным сюжетом, имея определенную социальную цель и обладая определенным стилем, то есть произведение, выражающее своей основной формой мировоззрение, иллюстрируется современным художником, сочувствующим стилю и цели произведения. Тогда перед художником стоит задача всеми доступными пространственному искусству средствами дать пространственное существование слову и расширить область темы. Тогда макет и шрифт передают основные ритмы произведения; форзац, виньетка — тот фон, ту почву, на которой все происходит; иллюстрация в тексте — развитие идеи, фабулы, движения; фронтиспис — чисто пространственный, чисто зрительный синтез всего временного произведения в целом, как бы взгляд вдоль линии движения. Словом, именно в таком случае мы получаем осуществление синтеза искусств и осуществление его реалистической темы. 4) Наконец, мы можем иметь случай, когда антихудожественное произведение может быть подвергнуто синтетической обработке в книге и, как я уже сказал, через художественное отрицание получает художественное существование. Тут, по-видимому, сатира должна прежде всего коснуться предметно-пространственного момента. [...] На этом разрешите мне кончить. Я совсем не коснулся вопроса жанра, но это — за недостатком времени; конечно, необходимо и жанры учесть в их влиянии на книжную форму. 9 июля 1932 года  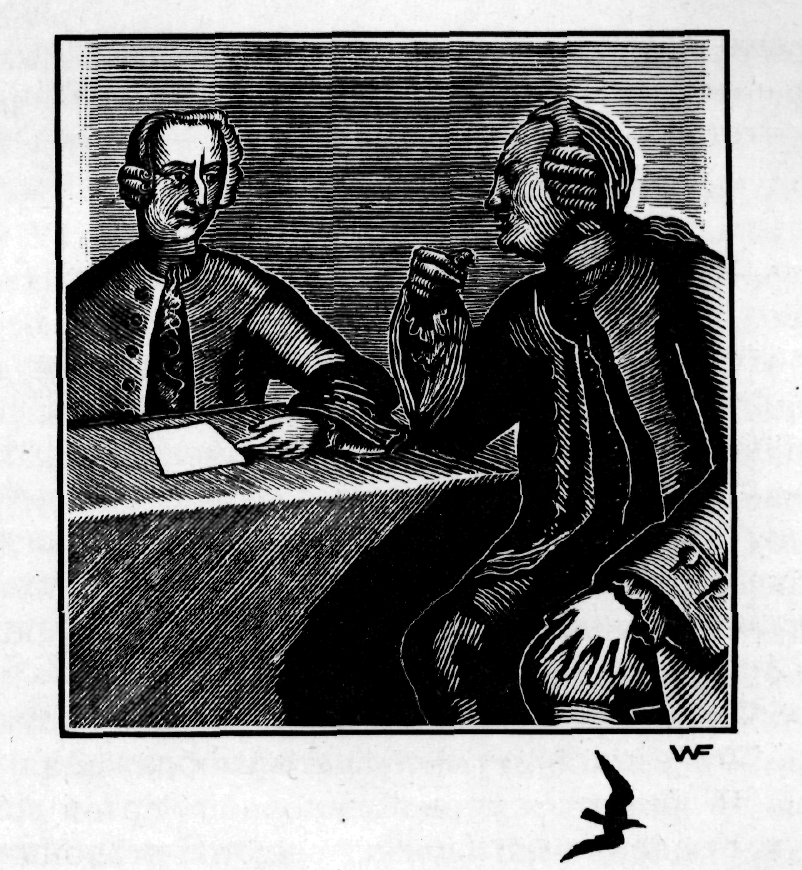 Об иллюстрации, о стиле и о мировоззрении Подходя к литературному произведению, художник книги ставит перед собой вопрос: что же он должен выразить и как, каким образом, располагая средствами пространственного искусства, создавая объем переплета, архитектурную смену страниц, располагая колонны текста и иллюстрации, я могу выразить литературное словесное и по преимуществу временное произведение и что я должен в нем выражать. Иллюстрации, как и весь строй книги, должны, конечно, ответить на познавательный момент, должны помочь паузами, акцентами, замедлением и ускорением ритма рассказать фабулу книги, ее сюжет. Но только ли этим ограничивается задача художника? Фабула, сюжет, временная структура рассказа, зрительная материальная одежда всей фабулы, конечно, могут быть еще более уяснены в строе книги, в цикле иллюстраций (примеры: иллюстрации Менцеля к «Истории Фридриха Великого», иллюстрации к путешествиям Жюля Верна и т. п.), но, конечно, нельзя этим ограничиваться. Автор литературного произведения, беря сюжетный случай, беря частный момент, повышает его до типа, открывая в нем монументальные ритмы и в конце концов доводит свое словесное произведение до состояния цельного художественного организма, в котором не фабула только и не только название будут как бы представлять содержание, а все моменты формы уже пронизаны содержанием. Тогда художник-иллюстратор, выделяющий фабулу и сюжет и только на ней сосредоточивающийся, может сослужить писателю плохую службу. К его произведению он как бы привесит гирю и будет его тянуть в частности, в случайность, к первоначальному моменту творчества. Поэтому нужно, оформляя книгу, ответить не только на сюжет, но и на стиль литературного произведения. Правда, по сути дела, это неразделимо, и, помогая рассказу, пространственник невольно обращается к ритму, и даже тогда, когда пытается быть совершенно чистым от литературы, как это иногда пытался [сделать] конструктивизм в книге, то и тогда уже получается какая-либо манера и как бы уже запах стиля. Следовательно, оформляя книгу, мы должны ответить на сюжет и на стиль литературного произведения и очень часто художественное литературное произведение требует больше второго, чем первого, так как если книга хочет быть художественным произведением, то, вводя книгой слово как материальную вещь в наш быт, в наше бытовое пространство, она должна и своими бессюжетными моментами, как то: переплет, форзац, формат, шрифт и т. п., ответить на основную тему литературного произведения, а это возможно, только передав стиль словесного произведения. Таким образом, у иллюстратора невольно возникает вопрос о стиле словесного произведения, об аналогии его с пространственным искусством и о том, что такое, собственно, стиль. Когда я изображаю что-либо с натуры, пишу или рисую, то одним из существенных моментов будет цельность изображения. Композиция, композиционность являются первой основной чертой всякого изображения, когда мы подойдем к произведению со стороны формы. Но возможность цельного изображения заключает в себя уже мое понимание действительности, так как, добиваясь цельности, я необходимо должен понять действительность в ее членении на части, предметы и вещи и понять отношение их друг к другу. Поэтому уже в проблеме композиции мы можем наметить различные моменты цельности: 1) элементарную цельность материала, 2) цельность, конструктивно членящую изображение на части и строящуюся на отношении частей, на пропорции, и 3) композиционную цельность зрительного образа, когда мы находим в изображении соединенными и сложность, и простоту, и динамику, и статику. Изображение, проходя полное развитие, как бы встречается с элементарной цельностью материала, массы, анализирует ее, членя на предметы, сил[овые] центры и т. д., и через сложность отношения приходит к сложной, содержательной цельности. Ясно, что художник в произведении таким образом как бы вырабатывает в процессе изображения систему понимания действительности, и только на основе этой системы, ощущаемой и понимаемой, конечно, практически, художник достигает цельности изображения. Но всегда ли изображение достигает композиционной цельности и становится произведением сложно-простым? Мы встречаемся часто с произведением, которое только занято элементарной цельностью материала, наслаждается едва заметными колебаниями массы или равномерным движением времени или психологическими нюансами. Такое изображение мы можем назвать натуралистическим. В вопросе о различии натурализма и реализма как раз момент анализа, конструктивности, момент различения центров массы, центров внимания, из которых образуются предметы, лица, герои, имеет большое значение. Причем тут надо оговориться, что слово натурализм обычно покрывает два типа изображения, в сущности совершенно различные. С одной стороны, механическое иллюзионистическое изображение, с другой стороны, изображение явно эмоциональное, явно чувственное, но имеющее своей темой материал, массу, среду, погоду, атмосферу, свет и строящееся на ощущении, а не на представлении. Первое изображение, в сущности, рассчитывает только на зрительный обман и будет нехудожественным изображением, не основывающимся ни на непосредственном чувстве, ни на представлении о действительности, изображением, превращающим органы восприятия в механические аппараты копирования. Поэтому, с точки зрения .искусства и художественного понимания действительности, такое изображение будет порочным. Второе изображение дает нам пример органического натурализма, чувствующего всю сложность действительности, ощущающего ее, как бы погружаясь в материал, непосредственно его переживая, но не доводя изображения до представления, достигая мироощущения, но не доходя до мировоззрения, до миро представления. Такой натурализм будет органическим явлением в искусстве и будет основой всякого изображения. Без мироощущения не может быть и миропредставления. Правда, иногда такой натурализм может заявить себя как мировоззрение, то есть мироощущение поставить принципиально на место мировоззрения, и тогда мы встречаемся уже с методической направленностью, подменяющей все богатство искусства только его основной, его первоначальной ступенью. В чем же особенность реализма? Реализм, проходя через ощущение, через эмоцию, доводит изображение до содержательности представления, но естественно, что здесь большую роль будет иметь конструктивное понимание действительности с его анализом, меряющим материал метрически: намечаются центры весовые и зрительные, выясняются отношения их друг к другу — доводя эту всю сложность до синтеза. С одной стороны — аналитическое членение природы на прерывные единицы, с другой — элементарная цельность материала, дающая слитность всего, и затем — синтетическая цельность и прерывного и непрерывного, предмета в пространстве. Словом, можно сказать, что всякое реалистическое изображение будет иметь в основе предметно-пространственную форму понимания действительности. И в этой предметно-пространственной форме выразится мировоззрение, всякое конкретное художественное понимание действительности столкнется с предметом и пространством и отношением одного к другому. Можно сказать, что предметно-пространственная форма, отношение предмета к пространству и будет выражать основной стиль произведения и будет образной формой мировоззрения. Натурализм в искусстве не может претендовать на мировоззрение, только реализм, доводящий изображение до чувственного, но в то же время конкретного представления о действительности, может считаться мировоззренчески выразительным, и предметно-пространственная форма будет выражать стиль художественного произведения, являясь в одно и то же время и содержанием образного представления и формой. Рассмотрение художественного произведения по линии предметно-пространственной формы есть рассмотрение сразу и по содержанию и по форме. Предмет и пространство мы должны понимать очень широко. В живописи и скульптуре — это вещи окружающей нас действительности, люди; в архитектуре — это детальные архитектурные организмы, входящие в пространство архитектуры как масштабные единицы, как представители человека (колонны, окна, двери); в орнаменте — это метр; в литературе — это, с одной стороны, герой — человек, и среда, с другой стороны — слово и речь, подлежащее и предложение. Разные отношения предмета к пространству, пространства к предмету, влияние их друг на друга формуют их и создают взаимно; и одна форма предмета предполагает определенную форму пространства и, обратно, форма пространства — определенный предмет. Поэтому мы и можем говорить, что отношение предмета к пространству и будет определяющим. Кроме того, мы можем наблюдать, что когда в искусстве пытаются ограничиться только пространством, не касаясь предмета, то пространство перестает пониматься как мир, а деградирует до среды, погоды, атмосферы, словом, из формы становится массой, материалом. Если же художественное произведение пытается ограничиться только предметом, отказывается от пространства, то мы невольно приходим к схематизму предмета, к модели вещи без настоящей сложности, присущей живой и динамической вещи. Первый случай и будет случаем натурализма, второй мы встретим в рационализме, где попытка построить предмет без учета стихии пространства приведет всегда более или менее к схеме. Предмет и пространство — это как бы два полюса, полярным натяжением образующие форму. В пространственном искусстве мы наблюдаем явления подобных полярных моментов, образующие форму. Так, например, у Вёльфлина понятие графичности и живописности. Эти полярные моменты не прикладываются механически друг к другу, а проникают друг в друга таким образом, что, например, предмет сам по себе уже пространственен, пространство уже и предметно. В органическом искусстве мы видим это проникание предельного предмета беспредельным пространством и наоборот, и только там, где мы в какой-то мере встречаемся с рационализмом, мы наблюдаем отталкивание друг от друга предмета и пространства, как бы отрицание [ими] друг друга. В греческом искусстве фигура человека, являясь четко выраженным предметом, своей вертикалью, своими контурами, поверхностью обособленным в самостоятельное целое, в то же время проникается пространственными ритмами: вертикаль становится вертикалью пространства, фигура и лицо получают пространственную глубину, контуры, ограничивая тело и ритмуясь с центральной вертикалью, превращают человека как бы в единицу пространства,— словом, предмет насквозь пространственен. В свой черед, пространство предметно (человечно) уже тем, что вертикаль и горизонталь совершенно определенно относятся друг к другу, причем ведущей будет вертикаль, пространство измеряется во всех направлениях человеком. Пространство структивно. Такое проникновение друг в друга и такое равновесие этих двух начал в Греции и объясняет ту красоту человеческих форм, которую мы там встречаем. Такая красота лица и фигуры, помимо изучения гимнастического тела, помимо культа тела в классическом обществе, как художественное явление объясняется пространственной типичностью человека, и поэтому нелепо звучат все эти прямые носы ложноклассиков, которыми злоупотреблял 19 век, беря это просто как красивость. Итак, стиль в искусстве выражает основные моменты мировоззрения, анализ стилевой формы дает нам определенное отношение в данном искусстве предмета к пространству и через то и определенную форму предмета и пространства. Постараемся на примерах проследить это. Возьмем египетское искусство в его основной тенденции. Изобразительная поверхность неограниченна (изобразительной поверхностью служит часто объем), и, сливаясь с ней, будучи в сущности ее куском, контурами выделяется человек, причем его власть над пространством выражается только в непосредственном жесте, в шаге. Пространство — бесконечно, неизмеримо, неизведано, но в то же время материально-конкретно; человек — часть этого пространства, но ни в коем случае не ритмичен с пространством, не является его мерой, человек как бы в пустыне. Нет ли тут аналогий с литературной формой эпоса, эпической формой? Герой и рок, неизвестность и в то же время конкретность рока, конкретность сказочного пространства, все эти «горы толкучие», «леса дремучие», Харибда [и] Сцилла, три дороги Ильи Муромца и т. п. Я не могу здесь анализировать, какие экономические и общественные формы обусловили такую или иную форму мировоззрения, но пытаюсь просто рассказать содержание художественной формы. Возьмем итальянский Ренессанс, хотя бы новеллы Боккаччо. Герой там определяется внешними признаками, внутрь его не входят, он наружу оборудован, красив, силен, ловок, хитер, и он действует, интригует, путешествует, он конкретен, а пространство — это, собственно, пустота, возможность всякого действия; препятствия — это такие же люди, с которыми приходится бороться, соперничать. Возьмем объемников Ренессанса: Гоццоли, Учелло, Гирландайо и т. п. Объемный предмет, профилями своими противопоставляющий себя окружающей пустоте: контуры не рисуют промежутки пространства, не оформляют их, они являются как остаток от объемов. В какой-то мере идет построение пространства предметом, но предмет не становится единицей пространства, его мерой, а противополагается ему, пространство отнюдь не материально. Возьмем барочную форму изображения при самом ее начале, Микеланджело пророков, хотя бы Иеремию. Каково здесь отношение предмета к пространству? Предмет-человек стал центром пространства и отсюда стал сам пространством, а границы пространства — его контуром, поэтому не только непосредственные действия героя, но и состояние его распространяется по окружающему пространству и строит его. С этим имеют много общего романтические формы и в литературе, где герой психологически, своей индивидуальностью окрашивает всю окружающую атмосферу. Затем очень интересные аналогии мы имеем в живописи и в литературе 19 века, где и там и тут все конкретнее и материальнее становится пространство, так что часто в литературе среда совсем уничтожает героя, а в живописи, например у Сезанна, промежутки между формами становятся часто материальнее самой формы предмета. Причем, усиливаясь, эта тенденция и там и тут приводит к натурализму, уже отметающему предмет, тем самым деградирующему, [низводящему] пространство до материала, до массы. Так, например, Париж Жюля Ромена или плоский кубизм в живописи. Все эти примеры взяты очень бегло, но они ни в коем случае не должны позволить думать, что виды предметно-пространственной формы ограничены и условно схематичны. Микеланджело имеет аналогии и с Византией, и с Рубенсом, и с Делакруа, но в то же время его предметно-пространственная форма единственная, и можно утверждать, что может существовать бесконечное количество различных предметно-пространственных пониманий, и в то же время взаимные отношения предмета к пространству и проникания друг в друга дают бесконечно сложную и содержательную форму понимания действительности. Возвращаюсь к вопросу об иллюстрации. Я думаю, что в этом именно направлении художник-пространственник должен искать раскрытия стиля художника слова, причем, конечно, очень часто ему приходится вскрывать, что предметно-пространственной формы и совсем нет, либо предмет и пространство схематичны и соединяются схематично. В связи со всем этим может быть поднят очень интересный вопрос о раскрытии стиля научной и политической мысли. Так, например, разве не ясен стиль Ломоносова и вообще материалистов 18 века и отличиедиалектического материализма от них? Там — без человека, здесь — с учетом конкретного человека. В этом смысле можно думать о стиле хотя бы «Коммунистического манифеста». 1932—1934  О плакате  Беседа с журналистом Г. Мценским |
