Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
Изобразительно она одномерна. Перед нами плоскость — лист бумаги или металла, безразлично. Тут опять важно, что она изобразительно дает нам плоскость отвлеченную, две стороны, а в сущности — объем. Важно, что мы сразу мыслим ее, отвлекаясь от материала. Двусторонность плоскости принимается во внимание, когда мы мыслим силуэт. Когда вырезаем силуэт, тогда она двусторонняя. Но плоскость может быть и односторонняя или с разными сторонами, правой и левой; например, когда мы пишем на плоскости или рисуем. Правда, подходя к краю, мы вспоминаем о другой стороне, о двусторонности поверхности. Так возникает понятие поля, которое дает переход от односторонней поверхности к двусторонней. Затем всяческие объемы. И тут мы прежде всего должны говорить о вертикальности и горизонтальности формы. Вертикальность колонн, столбов, вертикальность дерева подсказывает нам фигуру человека в архитектуре и изобразительном искусстве, является уже содержанием формы. Тут можно помянуть керамическую форму чаши, ее внешнюю поверхность и внутреннюю — насколько они различны. И в изображении совсем другое — рисовать там или тут; и переход от одной поверхности к другой будет событием почти невероятным. Одна будет говорить о внутреннем, сосредоточивать внимание и углублять тему; другая будет защищаться от внешних вещей, обособлять себя как вещь. Среди объемов, о которых интересно говорить, будет шар или шарик, если он маленький. Это бусина, которая висит и которая весит, и которая падает и катится. То, что она весит — это характерно, и что падает — это тоже характерно. Недаром Ньютон на круглом яблоке открыл закон тяготения. Но это одна бусина, а может быть гроздь... Гроздь винограда. Тогда это каскад шариков, изображающих падение, стремление, тяготение, висящих на одной веточке и в то же время говорящих о единичном и множественном, о могуществе и мелочности, о сложном и цельном. Вообще, о грозди всего не скажешь — до того она замечательна! В ней всегда есть возможность раскатиться, превратиться из грозди в град. Нечто родственное грозди винограда мы имеем в грозди сирени. Если дело имеем с крупноцветной персидской сиренью, то тяжесть будет выражена иначе — изгибом формы. И цветы, образующие гроздь, будут выпуклые, а с другой стороны, будут как бы гранями, оформляющими всю ветку. Ритмичность граней есть тоже явление, говорящее о содержании формы. А если мы говорим о кудре, о локоне или даже о стружке, о сосновой стружке, вышедшей из-под рубанка,— до чего они прекрасны! А наверное, потому, что имеют разные стороны, попеременно показывают то одну, то другую. Потом рассмотрим цветок, простой цветок с серединой, с лепестками. Мощь его можно почувствовать, если всю поверхность покрыть цветочными лицами или глазами! Как их назвать — не знаешь, а все-таки они смотрят и имеют глубину, как лицо. Это то, что мы имеем в природе всюду и можем использовать как форму уже содержательную и в орнаменте, и в других местах. Но цветок в своем высшем достижении — это роза. Почему это, хотя кажется безусловным? — Потому что говорит о внешней форме и о внутренней глубине. Каждый лепесток изгибается так, чтобы показать внешнюю замыкающую форму, и, с другой стороны, отгибается, чтобы совместно с другими показать сложность глубины цветка. О розе трудно говорить. Но ее пластичность, и внешняя и внутренняя, несомненна. Вот несколько рассуждений о содержании формы. Это и обусловливает, что мы ищем для формы содержание. Форма уже заранее подсказывает нам тему, она небезразлична. 22 июня 1963 года 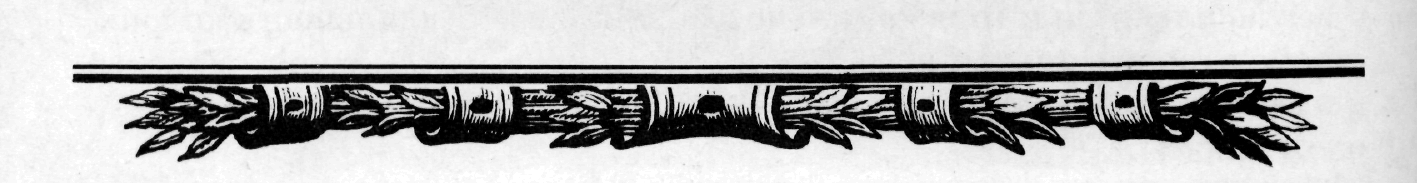 Об орнаменте Орнамент, я думаю, прежде всего — обработка поверхности. Придание ей качества. Характера. Отнюдь не украшение поверхности. Есть и другие способы обработки поверхности: фактура, цвет и т. д., среди которых орнамент — частный случай. Если можно без орнамента — пусть без орнамента. Но при помощи орнамента легче дать поверхности характер. В конце концов какой-нибудь титул буквенный, заставка, концовка — это тоже орнамент. Орнамент может углублять поверхность, и это на первый взгляд странно. Но покрой поверхность розетками, вот такими глазами, на тебя смотрящими,— просто удивишься, какой она становится глубокой. Наоборот: поверхность, покрытая листьями, приобретает мягкость, плоскостность. Между прочим, для углубления поверхности в восточном искусстве применяется двуплановый орнамент, то есть один орнамент, а по нему идет другой. Я делал титул к «Маленьким трагедиям». Там кипарис и лавр. Кипарис должен Смерть изображать, а лавр — Славу. Но кипарис делает углубление в плоскости — проваливается. Лавр лежит на поверхности страницы. Ветка кипариса совсем утонула, лавр меньше тонет. Тут важен рельеф — кипарис говорит о глубине, а лавр — о сверху лежащей форме. Эти взаимодействия очень сложны. Удаление какого-нибудь пятна может все разрушить. И потом, тут соблюдено равновесие. Уберите подпись — и оно уже нарушится. Вся эта система прикрепляет изображение к месту, все связано. Большинство букв, которые сейчас пишутся,— они графические, но их можно сдуть. Это, конечно, никуда не годится. У меня тут были и гравюрные задачи: я убираю черное, ввожу белое. И должно быть впечатление, что черное осталось, что вы поскоблите белое — и там будет черное. Нужно стараться вызвать активность белого. Пассивность чистого поля — это гибель для орнамента, буквенного или какого бы то ни было другого. Орнамент влияет и на поле, которое его окружает или которое он окружает. При этом особо важное значение имеет край плоскости и обработка его орнаментом. Но когда орнамент характеризует край плоскости, он, конечно, характеризует и середину, не заполненную ничем. Он старается «разбудить» ее издали. Обычно орнамент складывается из метра и ритма. Что это такое, ясно видно на «побегунчиках» — орнаментах, которые движутся, орнаментах типа меандра. Метр — это деление горизонталей на части, равномерное деление. А ритм — это изменение ударения метра, создаваемое наложением одного метра на другой. Первый метр делит горизонталь на равные части. Остальные изменяют ударение первого метра. Например, раппорт в тканях — метр. Представим себе квадратные раппорты, симметричные. Вводится пятно сбоку. Само по себе оно ничего не дает. Но удары на всех раппортах сбоку, с угла дают ритм. Сам раппорт желает по-другому, а я его построю иначе — и свяжу один с другим. Если бы я отмечал в раппорте середину, я только развивал бы его структуру, основной замысел, раппортное строение. Если бы я отмечал середину, я не внес бы ничего нового, а только развил старое, особенно если отделил бы один раппорт от другого. Если метр симметричен, то ритм асимметричен: он просто меняет ударение метра. Это ударение связывает метр с метром, и, таким образом, ритм играет объединяющую роль. Метр — структура движения, ритм — непрерывность движения. Ударения метра необязательно должны быть одинаковыми: возьмите фронтон храма Зевса в Олимпии. Каждый метр заполнен иначе строящейся фигурой. Иной акцент. Но если бы метр совершенно отсутствовал, у горизонтали не было бы никакого строя. Метр есть, конечно, не только в горизонтали. Тарелка может строиться от центра звездообразно, розеткообразно, и у этой розетки есть метрическое строение. Наконец, орнамент может как бы не иметь метрической основы, то есть метр заложен очень глубоко, до него нужно докапываться. Тогда появляется то, что называется «свободный ритм». Орнамент во всех случаях зависит от формы вещи, он рождается той формой, на которой он расположен, и функциями, которые характеризуют вещь. Функциональное назначение чайника или кувшина может быть орнаментально выражено — тут бесконечное число случаев. Носик отделить от тела чайника, сделать самостоятельным, ручку отделить и в то же время слить с чайником... Мне кажется, что когда функциональность побеждает вещь, это неправильно. Сейчас существует тенденция делать кувшин — чтобы из него только выливалось, чашку — чтобы из нее выпивалось. Это все функция, а вещь должна остаться вещью. Орнамент должен заботиться об этом. В этом смысле может быть спор между орнаментом, который утверждает функцию, и орнаментом, который утверждает вещь. Это спор между динамикой и статикой. Например, тело чайника может быть статическим, а носик — динамическим. Открытый, незамкнутый орнамент говорит о функции и не утверждает вещь. Но всякая форма должна быть статически уравновешена. Двигающаяся форма — бег человека, бег зверя, должна быть и статической тоже. Какой-нибудь греческий дискобол — он, кроме выражения движения, статичен и целен. И вот соединение статической цельности и выразительного движения создает настоящее динамическое изображение. Только динамическая форма не будет смотреться. Это показывает моментальная фотография. Лошадь прыгает, а на фотографии она, в сущности, стоит на одной ноге; шеренга людей на параде — все подняли ноги и так остались... Если объединить несколько моментов, получается настоящее изображение движения, а только динамика может разрушить форму. В книге все время есть динамика — от титула к титулу, от заставки к заставке. И в то же время статика есть. Титул определяет центр страницы и центр будущих страниц, а то, что он сдвинут налево, к корешку и к центру,— движение в книгу. Вот возьмите титул из «Маленьких трагедий», там это как раз видно. От титула начинается движение, которое идет через всю книгу. А концовка? Она кончает одно пространство и начинает другое, совсем свободное. Строчки идут, идут, идут — и вдруг кончились. А воспоминание о горизонталях есть. Концовка должна статически уравновесить это движение и, продолжая его, прекратить. Тут у меня розы — фасовые формы — как глаза, как розетки прикрепляют концовку к месту, а факелы и лопата распространяются по поверхности. Эти формы летят, но они, как гвозди, воткнуты в пространство... Самым существенным в орнаменте, конечно, является характер. Характер отвечает за все. Вот и все, что я могу сказать. Есть, между прочим, очень интересный вопрос, о котором я ничего не знаю. О «прозаизмах». Связь вещей в орнаменте создается иногда очень сложно, необязательно волютообразно или волнообразно. Могут быть как бы сухие соединения вещей — то, что можно назвать «прозаизмами». Какой-нибудь цветок брошен на страницу — а оказывается, что его нельзя сдвинуть. Кажется, что беспорядок, а оказывается — высший порядок. А так как я ничего об этом не знаю, то и сказать больше ничего не могу. Когда создаешь орнамент, вдруг открывается, что сделал что-то замечательное, нарисовал что-то такое, чего до сих пор не было и что может получиться только таким образом. Объяснить это чудо словесно очень трудно, и в этом смысле орнамент очень похож на музыку. Июль 1963 года  О стиле Когда рисуют предмет — какую-нибудь вещь или человека, то невольно изображают и пространство. Вещь проникается пространственным строем и, таким образом, оказывается пространственной. Например, человек создает передними своими точками переднюю плоскость, и от нее строится изображение, глубина, уходящая от нас. Таким образом получается пространственное изображение. Более отвлеченно можно вообразить себе, что человек или вообще предмет как бы построен из кристаллов и пространство вокруг него строится из отвлеченных невидимых кристаллов такого же строя. Прежде всего предмет получает вертикаль и горизонталь и, как я говорю, приобретает пространственный строй. Примером может быть Врубель с его кристаллами. В мозаике это сказывается, сказывается это и в живописи. Например, у Микеланджело играет роль — его мускулатура получает новый смысл. Конечно, это особенно видно в двойных изображениях. Когда два человека изображены, они как бы перекликаются друг с другом и между ними создается пространство, четко нарисованное. Иногда это пространство приближается к понятию пустоты. Предмет есть, а в окружающем пространстве ничего нет. Тогда предмет имеет тенденцию получить округлую форму. Его контуры становятся шаровидными. Они как бы борются с окружающим пространством, побеждают его и утверждают себя: дескать, пустота кругом, а я существую. А в других случаях контур предмета испытывает давление пространства, и контуры фигуры становятся линией, определяющей и характеризующей и вещь и пространство, ее окружающее. Они характеризуют не только предмет, но и пространство, окружающее его. И, таким образом, изображается не только человек, но и его пространство. Когда рисуется предмет, то он рисует и пространство своими контурами; и характер пространства зависит от предмета, и, наоборот, характер предмета зависит от пространства, его окружающего. Пространство может быть почти пустотой, а может быть построенным, иметь свой строй, и тогда этот же строй получает и изображенный предмет. Предмет зависит от пространства, а пространство зависит от предмета. Мы получаем отношение предмета к пространству и наоборот. Из них строится произведение. Если бы мы хотели «рассечь» произведение по плоскости, касающейся и содержания и формы, то это были бы предмет и пространство. Это и содержание, это и форма. Пространство, наполняющее произведение, создает мир в пределах, ограниченных рамой или контурами; мир, потому что в границах рамы или кон-тура он будет бесконечно сложен и целен. И отношение к нему предмета будет сложным и простым. Все произведение будет восприниматься вместе. Представим себе Египет, его плоскостные изображения: бесконечная стена, поверхность стены и на ней вырублены рельефы человека. Пространство бесконечное и элементарное, а человек, чтобы его завоевать, должен двигаться — он жестикулирует. Другое — фронтон храма Зевса в Олимпии. Там фигуры из обломов камней, мрамора, и такими же обломами смотрится воздух между ними. Они замкнуты, и вся трагедия происходит тут же. Это сколько-то схоже с концепцией Гомера, у которого герои противопоставлены року. Пространство уже известно и неизбежно, фатально, герой не может его изменить. Это новое отношение предмета к пространству. А если взять Ренессанс, Боккаччо,— герой подвижен, а пространство — это «купеческое» пространство, наполненное всякими чудесами, случаями, дающими богатство или разорение. Это же мы видим в изобразительном искусстве — подвижность. Другое у Микеланджело. Там создается центр, и каждая фигура с ним согласуется, подчиняется этому центру. Затем другое мы видим у Диккенса. Там человек может не двигаться. Он мрачен, сидит у камина, и все мрачно кругом — и здание, и Англия, и море. Он только сидит, а все строится по нему. И нечто подобное мы видим в византийском искусстве, где человек не только управляет пространством, а сам является пространством. И мы его контуры воспринимаем как границы пространства. Взять хотя бы «Троицу» Рублева. Снаружи это круг, а внутри контуры ангелов являются внутренними контурами. Каждый контур не только отвечает противолежащему, но испытывает давление контуров всех других ангелов и промежутков между ними. Мне кажется, что отношение предмета к пространству будет определять стиль вещи. Это вечная тема искусства. Решение ее так либо иначе определяет мировоззрение художника, мировоззрение эпохи. [Сентябрь—октябрь 1963 года] 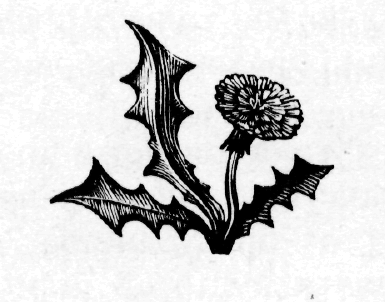  возникающие в связи с композицией Цельность — это слово важное, мы должны стремиться к цельному изображению, к цельности; и кроме того, мы надеемся, что цельность связана с красотой, которая нам крайне нужна. Но цельность предполагает сложность; только сложное цельно. И не простую сложность. Сложность такую, которая предполагает синтез противоположностей. Попробуем в этом разобраться. Передо мной рисунок натурщицы. Молодая красивая фигура, стройная и всем складом выражающая рост. Я ее рисую, набрасываю, и вот ее контуры как бы соотносятся с полями. Ее контуры и формы создают эхо на краях листа. Мой рисунок контуром как бы посылает на края сигналы эхолота. И таким образом создается то пространство, которое окружает фигуру, проникает внутрь фигуры, строит ее. Другое совсем, если мы возьмем «Портрет Достоевского» — гравюру. Там конфликт предмета и окружающего его пространства гораздо серьезнее. Грудь, руки, вся поза указывает на то, что ей приходится испытывать большой нажим пространства — противостоять ему. А в лице и в [кистях] рук есть победа над пространством. В том и другом случае мы получаем предметно-пространственный синтез. Во втором случае он трагический. А вот еще гравюра, еще портрет — «Кутузов». Фон его — в движении, а он сам стоит впереди, не участвуя в нем, а думает свою думу. Его контуры позволяют ему думать и становиться особенным пространством — еще решение. Мы все время наталкиваемся на предметно-пространственный синтез, и мне кажется, что можно думать о крайних случаях отношения предмета к пространству. Можно представить такой предмет, чтобы он не возбуждал эхо в окружающем пространстве, и тогда он не даст синтеза, а будет только предметом. Это одно, а другое, когда предмет становится центром всей композиции. Он не шевелится, не жестикулирует, а организует пространство — все кругом и в себе. В этих крайних случаях и между ними может быть много решений разных. Рассмотрим мы дальше вопрос: как время и разновременное приходят к цельности. Мы знаем такие случаи, как со Спасскими воротами. Глядя на них, мы прежде всего бросаем взгляд наверх, примерно на часы. А низ мы видали уже. А когда видали? — Неизвестно. «Раньше». Этого «раньше» не было. В психологиях старинных был пример сна: человек коснулся шеей железа кровати и проснулся. Ему приснился длинный сон — он попал в Париж во время Французской революции, был в одной партии, потом в другой, и в конце концов, так живя, он был присужден к гильотинированию. И когда железо кровати коснулось его шеи, он представил себе гильотину и всю свою жизнь в Париже, которая была раньше. А этого «раньше» не было. Вот вопрос: как создавался этот сон — от конца к началу или от начала к концу? А в последовательности мы понимаем от начала к концу, и тут у нас есть аналогия с изобразительным искусством. Если взять «Страшный суд» Микеланджело, то фигура Христа является центром и, можно сказать, концом композиции. Мы должны строить композицию и бороться со временем. Важно, как мы переживаем его. Горизонталь и вертикаль. Горизонтальное движение — мы делим его на равные доли и идем что вправо, что влево — почти одинаково. Идем вновь, не по старому следу, правда, движение примитивно, оно имеет характер простого движения во времени. А создавая композиционную цельность, мы должны дать единовременно временное. Ведь когда мы воспринимаем вертикаль и «раньше» видели ее низ, то «раньше» этого не было. А в вертикали есть тенденция к росту, как в движении фонтанной струи вверх. Мы спускаемся по ней вниз и идем как бы против течения, и, в сущности, идем по знакомому месту вторично. И особенно потому, что вертикаль имеет один центр, а горизонталь будет иметь по крайней мере два фокуса. И вот получается, что больше движения, больше времени идет на вертикаль, чем на горизонталь, а кажется нам, что проще и цельнее воспринимается вертикаль. Она безусловно конечна. Рост ее, нами определенный, определяет ее содержание, ее зрительный центр, который нельзя передвинуть, так как это будет уже другая вертикаль. Изобразительная плоскость тоже способствует цельности. Мы не замечаем ее значения. Она невольно появляется в нашем видении и так или иначе собирает на себе природные явления. И эта плоскость может быть разная, смотря по тому, как она образована. Мы представляем себе плоскость имеющей обрамление. Обрамление дает ей крепость. А можно иначе представить ее образование. Если мы возьмем вертикаль и двинем ее направо и налево, мы получим плоскость очень цельную, так как вертикаль есть сама цельность, а плоскость образуется движением вертикали. Изобразительная плоскость образуется не всегда движением вертикали. Возьмем памятник Гегесо. Там сидящая фигура, а перед ней служанка со шкатулкой. И хотя и служанка, и сидящая фигура Гегесо плавно изогнуты, они все-таки легко объединяются прямой, и прямая делает их восприятие более простым. Но прямая Гегесо и вертикаль служанки имеют тенденцию из угла, в котором стоит служанка, создавать веерообразное движение, которое бы проходило по всему рельефу, причем то, что вертикаль создается как одна линия, сдвинутая фигурами по всему рельефу, делает плоскость очень цельной. Мы видим тут, что плоскость движения, усложненная движением линии, становится единовременнее, цельнее. Вспомним всадника на стеле. Там тоже изображение строится движением прямой из левого и правого угла. Композиция строится в треугольнике, но суть композиции в том, что один контур треугольника становится другим контуром через движение. Все в движении, и это движение дает цельность. Кажется, что время больше и движения больше, а тем не менее цельней. Это что касается плоскости в двух измерениях, а вот как создается глубина — это дальше увидим. Перед нами задача изобразить все на цельной плоскости. Мы видим, что все-таки тратим время, но это время сжимается. Но мы вернемся к этому потом, а сейчас займемся греческими рельефами. Греческие рельефы классичностью своей могут раскрыть нам свои законы, и эти законы должны нам служить не только для раскрытия скульптурных рельефов, но и, по аналогии,— живописных. Приходится говорить об ордерах. Дорический ордер и ионический ордер. Вот два примера, живущих в нашем искусстве. Правда, Пуссен, ссылаясь на модусы греческого искусства, называет их много, но мы возьмем только два типа рельефов, связанных с архитектурой дорической и ионической. Дорическая архитектура окружена колоннами, эти колонны создают зрительную плоскость и впечатление, что за колоннами глубина и целла храма. Так же построены все рельефы, участвующие в архитектуре. Так строят фронтоны, тоже создавая зрительную плоскость. Так же строятся метопы, окруженные триглифами. Так что они представляют изображение, участвующее в архитектуре. Они строят пространство вместе с архитектурой. Конкретности переднего плана, той зрительной плоскости, о которой я говорю, помогают каннелюры колонн. Отсюда получается рельеф с цельной передней плоскостью, а глубина его создается движением плоскости от нас в глубину. Причем можно быстро двигать, можно медленно двигать. Это движение создает, проходя через предметы, глубину с бесконечным количеством деталей, детальных остановок. Это дорический рельеф, а ионический — другой. Там колонны уже и без каннелюр; фриз сплошной, не деленный на части, идет вокруг всего здания. И характерно, что в ионическом ордере бывают круглые здания, дорический ордер не имеет круглых зданий. И характерно, что скульптура функционально участвует в архитектуре, например, кариатиды. Фон рельефа — это тело здания, и на нем-то и строится рельеф. Но необязательно имеется передняя зрительная плоскость. Выпуклости рельефа создают большой рельеф, и маленькие рельефы аккомпанируют ему. Вот два типа рельефа, которые живут в искусстве. Так и в живописи мы можем сказать: у Дюрера — ионический рельеф, а у Рембрандта -дорический, и т. д. Рельефы служат нам, создавая глубину, ее цельность. Мы еще к этому вернемся, а сейчас займемся другим. Какие-то моменты в истории искусств человек чувствовал себя окруженным колоннами и столбами. Это касается архитектуры готической, и леса, и формы камней. Это немножко похоже на пример с вертикалью. Когда мы движем вертикаль по плоскости, то можем ее остановить. Так, от Джотто до Микеланджело мы встречаем в композиции изображения людей, и человек, даже склонившийся горизонтально, будет трактоваться вертикальными формами, как бы расчлененный вертикалью на части, как склонившиеся Марфа и Мария перед Христом у Джотто. И тут будет много примеров: и Микеланджело «Рабы» и «Мадонна Медичи» —с одной стороны четко образующие вертикальную границу, с другой — угловатой, прорезной — рассказывающие о сюжете, рассказывающие о младенце. Вообще вертикальная форма имеется у Джотто. Всегда о нем думают как о начале искусства, которое из него родилось. А мне кажется важнее, что он завершает некоторый период, за ним стоит готическое искусство, романский рельеф — с одной стороны, а с другой — византийское искусство с его глубиной. Мы еще встречаем это у Никколо Пизано. В начале Ренессанса существовали шкатулки из слоновой кости. На крышке их рельеф, он образуется тремя горбылями слоновой кости, а изображается одна картина. Вверху: на среднем горбыле — распятый Христос, а справа и слева — разбойники; внизу: непрерывная толпа. В этой толпе прячется вертикаль и создает глубину. То, что на плоскости как бы присутствует вертикаль, это подчеркивает всякое наклонное движение и делает его цельным, связанным с архитектурой. Это усиливает и приближает эхо. Теперь совсем другое. В науке человек имеет метод познания, несет его в природу и таким образом познает природу. Ему больше ничего не нужно. Мне казалось, что в искусстве современном также ничего не нужно для создания цельности композиционной. При развитии цветовых отношений, пластичности цвета всякий цвет может видеться и массивным, и легким, и теплым относительно, и холодным, так что художник как бы из натуры может создать цельное восприятие, не отходя от натуры и не пользуясь ничем, кроме нее. Конец XIX—XX век создает цветной рельеф и при помощи цвета, не пользуясь ничем, кроме видения, достигает цельности. Мы наблюдали композиции, основанные на движении нами частей, планов, а тут наблюдаем как бы движение самих частей, самих планов. Уже не мы двигаем, они сами двигаются и складываются в цельность. Здесь, как и в науке, один человек противостоит природе и из нее извлекает то, что ему нужно. Не так в древнем искусстве. Там мы видим нечто подобное размерам и рифмам в поэзии, способствующим цельности. Главное, что мы встречаем,— это симметрия. Это аппарат, способствующий цельности, и своеобразный канон движения. Прежде всего мы встречаем простую симметрию, когда, идя вправо от оси симметрии, мы как бы то же проделываем и влево — там и тут образуются подобные формы. А иногда симметрия усложняется подобием через параллельность. Например: в храме Зевса в Олимпии во фронтоне употреблены справа и слева хиазмы, и поэтому группы и там и тут симметричны относительно оси симметрии и, кроме того, по параллельности кентавров и женщин. Но симметрия развивается дальше. Тут одна ось управляла симметрией, а если возьмем горизонтальную ось, то у нас получится, что симметрией управляет полученная крестообразная форма. Но беда в том, что, употребив две оси симметрии, мы невольно скатываемся к множеству осей, к розеточной симметрии. Этой симметрией пользуешься иногда, когда пишешь плафоны. Интересно, что, столкнувшись с абсурдным явлением, когда все подобно всему, Тинторетто берет диагональ как линию рассказа и на ней все строит. Например: бой Георгия со змеем — в низу диагонали, в середине диагонали - царевна, в верху диагонали — звезда. Слева направо вверх — диагональ подъема. Симметричные формы мы видим у Перуджино. Но существенно, что ось симметрии там проходит через главную фигуру. Она является основой композиции, и в то же время она проходит через мадонну, подчеркивает ее состояние. А потом мы видим следующее: ось симметрии становится контуром и обогащается этим, потому что, будучи осью симметрии, часть контура и вообще предмета симметрична пустоте. Так, например, «Вознесение Марии» у Тициана. Большое «X» дает симметрию, делает форму мадонны и апостолов симметричными, и вся композиция, таким образом, строится на двух диагоналях. Две оси образуют всю композицию. А Тинторетто иногда решает это иначе. Он берет позу фигуры как бы сидящей и потом начинает ее располагать так, что она как бы совершает танец. Если мы возьмем его картину «Чудо святого Марка» — эта поза повторяется во всей композиции. Там получается так: лежащий мученик дается в позе сидящего человека, его мучитель склонился над ним, повторяя ту же позу, и ангел, сверху этой группы, повторяет эту позу, и воины, сидящие на ступенях. Выше всех — судья, который тоже повторяет эту позу, только в другом ракурсе. Фигуры как бы совершают танец и приобщают к композиции не только самих себя, а и те пути, которые их соединяют. Это апогей симметрии. Кроме того, по аналогии с поэзией, нужно указать на нечто вроде рифмы, когда через подобие одна форма похожа на другую и [они] перекликаются. Я говорил о цельности. Хочу еще добавить к этому, разобраться. Цельность может быть разная. Прежде всего цельность материала — примитивная цельность. Мы встречаем одинаковые свойства. Ничего неожиданного. Например, глина. Она цельна и вся одинакова, ее можно мять, из нее лепить, и она даст только свою пластичность и больше ничего. Это первый вид цельности. Второй случай — конструктивный подход к этому материалу. Он даст мне возможность разделить материал на разные части, характеризующие пропорции, подчинение и соподчинение кусков. Это может быть как предложение: одна часть — подлежащее, другая будет сказуемое. И вообще можно пользоваться аналогией со словом, с частями предложения. Надо учесть, что иногда в пейзаже и натюрморте бывают и своеобразные безымянные предложения. Не всякое предложение будет цельным. Мы должны работать над цельностью предложения. Но все-таки подлежащее и сказуемое уже предполагают отношения. Возьмем хотя бы такую фразу: «Мыла Марусенька белые ноги». Тут важно становится каждое слово, и существенно относятся «белые ноги» к подлежащему и сказуемому — проникают и в то и в другое. Недаром говорится: «белоногая Фетида», и еще вспоминается Шенье, у которого сказано, что моряки будут звать в беде «белую Фетиду» и «белую Нээру». Уже это, в общем, привносит в произведение красоту. Можно еще пример привести: «...Вползет окровавленное Злодейство, и руку будет мне лизать...» Это, с одной стороны, такой ужасный момент, а с другой — когда «...за злато отвечает честной булат...» Ведь он — рыцарь и хочет стоять на страже своих богатств и имеет право их охранять. А кончается все жалким криком: «Ключи, ключи мои!» Если говорить о пластической композиции, го она проявляется здесь профилем и фасом — фасовой формой в соединении с профильной формой. Профильная форма роднит форму с плоскостью, а фасовая делает всю композицию неподвижной, прикрепленной к данному месту. Это всегда можно наблюдать в композиции: одно - тенденция к силуэту, его проработка, и в то же время — рельеф, проработка формы рельефа. Силуэт и форма, пластика рельефа должны спорить и давать в конце концов синтез. Это вторая форма цельности, ее можно назвать конструктивной цельностью. Ее восприятие будет главным образом через вчувствование. Так строятся отдельные предметы, функционально цельные. Так строится изображение предметов. Например, красота автомобиля и т. д. Но обратимся к плоскости. Все это рисуется на плоскости, и плоскость порождается в процессе восприятия и всегда может дать сюжету цельность. Плоскость должна быть ограниченной, иначе она, может быть, не будет ровной. Тут можно привлечь в качестве аналогии силовое магнитное поле. Совсем иначе мы смотрим середину плоскости и края ее. Край плоскости образует, хотим мы этого или не хотим, обрамление, а в центре — глубина, пространство. И вся плоскость должна быть построена напряженно-ритмически. И тогда она принимает конструктивную цельность и повышает ее. Вы знаете музыкальные инструменты: скрипка, гусли, арфа — все настраивается по-разному, имеет свой строй, свой лад. А в живописи изобразительная плоскость — нот тот инструмент, который помогает нам изображать. Плоскость обрамляется обычно вертикально и горизонтально. Значит вертикаль и горизонталь уже присутствуют, и, кроме того, как я говорил уже, к краям образуется поле или рама. Вся плоскость изобразительная готова принять любую конструкцию, отметить центр и боковые области, приняв любую цельность в двух измерениях, а планы — это прямое порождение плоскости. Плоскость открывается планами в глубину, причем мы можем выбрать, какой план главный и как другие ему подчиняются. Произведения есть разные — мы можем подчинить первый план второму, третьему или задний — подчинить переднему. Для этого нам нужно двинуть задний план вперед, так создается обратная перспектива. Но при помощи изобразительной плоскости мы изображаем пространство — предмет пропитывается пространством, и мы получаем третий вид цельности — композиционный. Но она не заменяет цельность конструктивную как бы сквозь композиционную цельность проглядывает конструктивная и, я не знаю как — вибрацией или одновременно — воспринимается и конструкция, и композиция. Причем пространственная композиция делает восприятие другим. Вчувствование характерно для конструкции, а для композиции — совсем другое дело. Мы воспринимаем пространственные вещи отвлеченно, как бы забыв о том, что они значат. Композиция не может существовать без конструкции. Конструкция может без композиции. Но основа цельности у них разная. Конструкцию мы воспринимаем функционально. Представьте себе руку. Я должен воспринимать ее функционально, конструктивно, от плеча, в ее движении. Композиционно мы воспримем ее иначе. Мы можем начать с кисти как главной формы и в композиции не решим, кому она принадлежит. Отвлеченность этой формы обусловливается пространственностью. Между прочим, помогает объединению, опять по аналогии с музыкой, синкопическое движение формы. Если мы примем своеобразное деление на такты — на контуры предметов, синкопы их перешагивают как там, так и тут. Пример мы видим у Микеланджело. «Сотворение Адама» — тут бог замкнут развевающейся материей, Адам — землей, а руки обоих протянуты друг к другу и перешагивают границы. Так эти синкопы объединяют вещи с пространством, как будто разрушают вещь. Вот так существуют в произведении цельность материала, цельность конструкции, цельность композиции. И надо сказать, что, по-видимому, композиция противопоставляется конструкции и они присутствуют вместе. И тогда понятно, что изобразительная плоскость повышает то, что видишь, до поэзии, и понятно, что в ней развиваются и лады, и своеобразные формы стихосложения, и своеобразные ритмы. Все произведение, его цельность становится как бы волной, поглощающей предметы, которые тем не менее остаются, и важно, что мы воспринимаем их двояко: как конкретную цельность конструкции и как абстрактную цельность композиции. Тут мне' хотелось бы сказать о видении. Мне кажется, что всякое восприятие натуры художником начинается со встречи с природой, и все тут живет и движется. Если изображается стол и я поставлю на стол стакан, то стол изменится. Буду ставить натюрморт — вещи будут изменять друг друга, влиять друг на друга; и не видеть этого невозможно. Это основа всякого изображения. С этого начинается изображение. Между прочим, по-немецки и по-голландски натюрморт называется «Stilleben» — тихая жизнь, и мы должны изобразить ее. Что мы приобретаем через композиционное изображение? Не довольно ли конструктивной цельности? Композиционное изображение дает нам возможность изображать пространство. Изображая лес, мы будем изображать лес, а не отдельные деревья. Или изобразим беседу между людьми, как это сделал Рублев в «Троице». Так композиция приносит нам большие выгоды, как бы позволяет читать между строк и изображать пространство между предметами. Композиционное изображение как бы стирает названия предметов, и мы должны понять и назвать их сызнова, и всякое изображение начинается с удивления. Удивление должно быть вначале. Теперь о чем мы можем говорить дальше: о правде, о красоте, о добре-справедливости. Что такое правда? Это не правдоподобие. Ей противопоставляешь не неправду, а ложь. И тогда она значением повышается. А цельность приводит нас к красоте. И пропорции вещей и пространственность выражаются в красоте. Грация — это красота отдельного предмета, а гармония — красота пространства, понятого как мир бесконечно, сложный и замкнутый. Когда мы говорим о красоте нашей природы и начинаем хвалить ее, то мы говорим большею частью так: «Пускай она проста и даже бедна — какая-нибудь береза или пейзаж, но она родная, нам близка, и мы ее красоту ни на что не променяем». Все это, в сущности, говорит о моральном понятии, о добре. Так что красота есть только другое лицо правды. Таким образом мы овладеваем добром. Всякое цельное изображение приводит нас к красоте и тем самым к добру. А что изображает искусство? — Изображает красоту. Сколько Венер! — и греки, и Джорджоне, и Тициан; и материнство Ренессанса Италии — бесчисленное количество мадонн. И юноши красивые - Давид, святой Себастьян — всерьез не берешь стрелы, а плавно стоящая фигура красива, например, у Антонелло да Мессина. Вообще пластические искусства преимущественно могут изображать красоту, как никакие другие. Это главная их тема. Но мы встречаем и другой подход — контрастный. У немцев часто изображается Девушка и Смерть, где скелет особенно подчеркивает красоту женской фигуры и говорит о бренности, следовательно, вдается в философию. Но вот, по-видимому, нравственную красоту очень ценят, и создается в литературе особый вид для улавливания ее. Этот вид — трагедия. В древнегреческой трагедии действуют рок и герой; и мы, сочувствуя герою, переживаем за него. Рок — судьба, но герой все-таки остается героем. Это подкупает нас. А вот «Маленькие трагедии» Пушкина. «Скупой рыцарь». Я уже говорил, что рыцарь остается рыцарем, несмотря на все свои злодеяния. А в «Моцарте и Сальери» коллизия злодеяний приводит к тому, что Моцарт говорит о сынах гармонии, тем самым поднимает нас высоко. А в «Дон Гуане» виртуозная игра в любовь приводит к серьезу и к статуе. А в «Пире во время чумы» трагедийное положение доходит до крайней степени напряжения и провозглашает устами Председателя гимн: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья - бессмертья, может быть, залог!» Все эти примеры литературные не совсем подходят для объяснения пластического искусства. Но, может быть, все это пригодится. Изображая злодейство, мы находим красоту как контраст злодейскому конфликту. Можно представить себе, когда мы изображаем некрасивые или злодейские темы, что мы в уме имеем красоту, добро-справедливость, тогда искусство живет негодованием. Но я не представляю, как изображать абсолютное зло и остаться чистым? Кончая эту статью, я хочу привести один случай. Мы с Ириной Коровай пошли в музей имени Пушкина, чтобы посмотреть выставку Рериха-младшего. Пошли потому, что это давало нам право его ругать. И на самом деле он заслуживает ругани, потому что никогда я не видел такой пошлости: женщины с выщипанными бровями среди волн. И представилось вдруг, что пошлость не ограничивается натурализмом, серятиной, а живет еще пошлость [...] красивенькая, яркая, украшенная разными красками. Но не в нем дело в данном случае. Мы, после его выставки, пошли к французам. И эти французы показались мне такими правдивыми, такими правильными и праведниками. Какой-нибудь Марке или Матисс и Сезанн! Тут действовал, конечно, контраст. Но видишь тут настоящее искусство в формальном и моральном отношении. Даже Пикассо. Например, «Завтрак комедиантов». Правда, испытываешь некоторую жалость и ужасаешься их худобе и тщедушности. "Но пространство двух фигур, отношение их друг к другу очень сильно выражено. Это и в других вещах чувствуется. Например, «Девочка на шаре и атлет» — какое грациозное произведение! 21 декабря 1963 года |
