Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
  Эпизоды из истории (О выразительности художественной формы) Однажды в нашем искусстве произошло следующее: один художник заговорил о форме. На это искусствовед ему ответил: «К чему это...Художнику нужно любить людей, понимать действительность и быть талантливым — больше ничего». В это же время произошло другое происшествие. Был юбилей Рублева, и один маститый художник сказал примерно следующее: «Конечно, идеология Рублева нам чужда, но его произведения поражают нас и сейчас своею музыкой». Что же это за музыка? Постараюсь выяснить. Когда создается какое-нибудь изображение, то попутно создается и эта музыка. Материал — будь то изобразительная плоскость или камень — и зрительные законы, сопутствуя изображению, обусловливая его, создают некую абстрактную форму, которая, несомненно, слита с изображаемым и которую только с трудом можно оторвать от него и представить себе как некий орнамент. Например, греки изображали своих атлетов-юношей сперва симметрично стоящими на двух ногах. Но вот однажды один скульптор передал молодое тело юноши в плавном движении, когда он опирался на одну ногу, а другую освободил. От этого бедра наклонились, плечевой пояс наклонился в противоположную сторону, голова тоже наклонилась. Получилось движение, характерное для юноши, стоящего свободно, и это движение передавало красоту юношеского тела и, следовательно, прямо служило целям изображения. А в сущности, совершилось громадное открытие. Художник тем самым открыл ось контрастного равновесия. И это открытие — ось контрастного равновесия — стало существенной чертой всякого искусства. Мы видим ее развитие в греческом искусстве, в византийском искусстве, видим в итальянском, у Микеланджело в «Давиде», в его композиции «Страшного суда». Словом, эта форма проявилась в бесчисленных примерах искусства. Так получается, что форма как бы способна отделиться от изображения и использоваться в других случаях, иногда и не в человеческой фигуре. А вот другой пример: мы видим «Венеру» Джорджоне и восхищаемся ею. Но не только красивой женской фигурой, а и той формой, которая получается в результате. Мы видим как бы форму лодки. Дело в том, что когда мы рисуем фигуру, то контур ее есть ее контур — она некоторыми формами выникает* из изобразительной плоскости, некоторыми формами тонет в ней. Но ее контур в то же время есть контур того пространства, которое ее окружает. У него [контура] как бы две задачи: нарисовать ее и нарисовать для нее удобное ложе в окружающем пространстве. * У В. А. Фаворского «выникает» употребляется в смысле «выступает» (Прим. ред.). Таким образом, попутно изображению «Венеры» создается как бы челнок или изящная лодка, красивая форма, как бы орнаментальная, которая если не сама может быть перенесена в орнамент, то напоминает его элемент. Но это не ограничивается «Венерой» Джорджоне. Почти всюду в искусстве Ренессанса, где мы встречаем лежащую женскую фигуру, происходит то же самое. Можно привести еще пример из Тициана — «Нимфа и сатир». Там другая форма, и там помогает покров, которым закрыта нимфа, потому что [он] служит промежуточным контуром, и тем легче контур решает двоякую задачу: нарисовать женскую фигуру и некое вместилище, опять подобное лодке, которое ее кладет в окружающее пространство. Нечто подобное мы видим в византийском искусстве, в композиции Рождение Христа. Там Мария лежит на тюфяке восточного типа. Положение ее контрастно — верх повернут в другую сторону. Здесь лодкообразная форма еще более ясна. А положение Марии напоминает двухволютную, контрастно расположенную форму, подобную латинскому S. Художник как бы кристаллизует живую форму, а кристалл оживляет. Круг. В нем возможно сложное строение кривых линий. Музыка круга может быть очень сложна и красива. И вот Ренессанс, который много раз воспевал материнство — Марию с Христом, выбирает тондо — круг для изображения Марии и младенца. Если мы возьмем такое изображение у Боттичелли, то увидим, как склоненная фигура матери ищет компромисса между вертикалью и окружностью, как окружающие ангелы располагаются как бы по меридианам круга, как младенец похож на семечко плода — с одной стороны, его контур рисует его округлости; с другой стороны — отвечает контрастам окружности. Таким образом, круг и материнство — кажется, что тут общего? — а общее несомненно. Форма абстрактная и конкретная живут вместе. Тут можно вспомнить орнаментальные круги, рисованные на платах, писанных на стене, на месте панели в русских древних фресках у Рублева, Дионисия, у Феофана и других. Всюду решается та же задача — внутри круга положить изогнутые формы так, чтобы они гармонично разрешали окружность. Нечто подобное мы встречаем в апсиде. Апсида — арка, дверь с круглым верхом. Все это прямо относится к человеку. Человек как бы образовывает арку и дверь, проходя сквозь стену из раза в раз. Тем более апсида могла служить изобразительной поверхностью и изображать человека. Пример — «нерушимая стена» в Киеве, где изображена Оранта, Мария, гигантских размеров. Опять — отвлеченная форма и человек. Затем рассмотрим «Троицу» Рублева. В этом произведении есть масса сторон, масса пластических тем: это произведение необъемлемое. Но я хочу коснуться одной черты. Здесь мы можем наблюдать явление внутренних контуров. Если взять среднего ангела, то его кон туры его характеризуют, его обнимают, и в то же время это контуры других ангелов, сбоку сидящих, а их внутренние контуры относятся не только к ним, но и ко всем другим ангелам. А внешние контуры замыкают всю группу. Таким образом, контуры, грубо говоря, дают пример скобки, вращающейся сразу в одну и в другую сторону, и от этого контур кажется особенно пространственным. По этой же причине промежутки между фигурами ангелов тоже нарисованы, тоже пластичны. Мне кажется, что такое, то есть внутренний контур, можно увидеть в натуре, увидеть, рисуя с натуры. А Рублев не рисовал с натуры, а подобное ввел в свою композицию. Я всегда этому удивлялся. Должно быть, общая культура зрения была сильна. Октябрь 1962 года Магнетический реализм 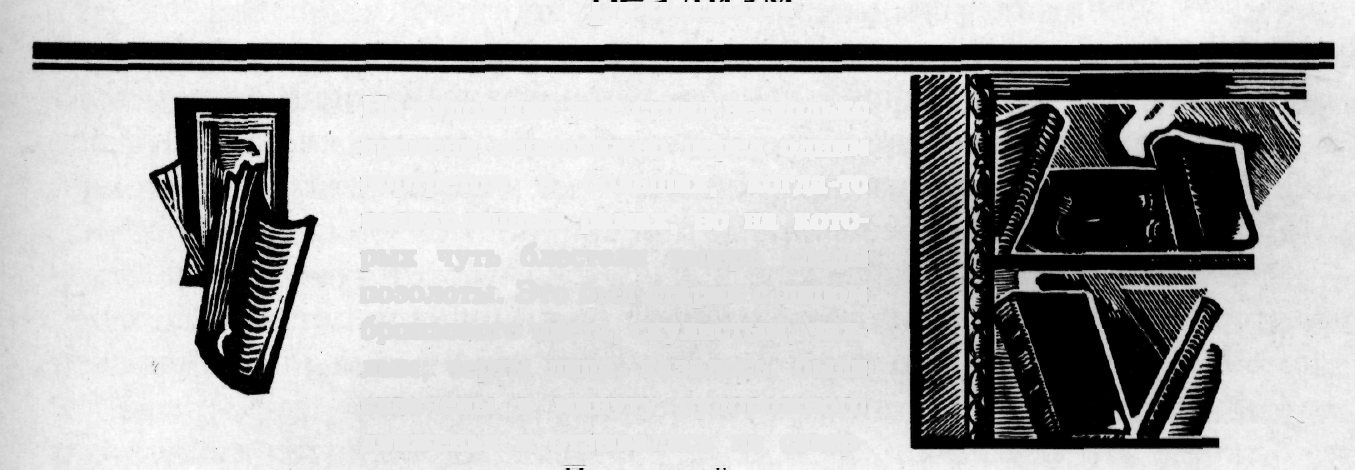 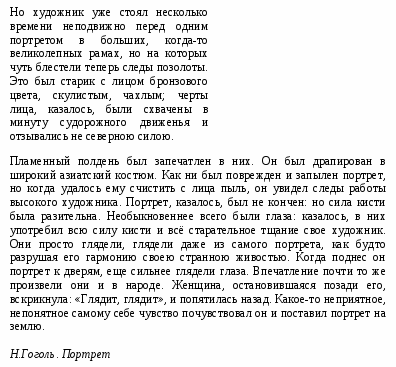  греческом мире с древних времен существовали легенды о магическом реализме. В этих легендах рассказывалось, что Дедал лепил людей и они оживали. То же самое приписывалось Прометею — он будто бы делал из глины людей, которые потом жили. У Гомера рассказано, что хромоногому Гефесту помогают ходить, поддерживая его, бронзовые прислужницы, которых сам он выковал для себя. греческом мире с древних времен существовали легенды о магическом реализме. В этих легендах рассказывалось, что Дедал лепил людей и они оживали. То же самое приписывалось Прометею — он будто бы делал из глины людей, которые потом жили. У Гомера рассказано, что хромоногому Гефесту помогают ходить, поддерживая его, бронзовые прислужницы, которых сам он выковал для себя.Все это — искусство, обладающее магическим реализмом, как бы чудесное искусство, делающее все до того реальным, что оно становится живым. Меня интересовало бы, какова была форма этих произведений, что для них характерно? И я решаюсь обратиться в мир магии — к детям, в мир магической детской игрушки. Вот перед нами прутики. Они изображают горячих лошадей. Вот рогулька — она изображает корову. Вот желуди или другие семена, долженствующие изображать, может быть по аналогии, свиней. Вот, наконец, какая-то кукла со сломанными ногами и отбитыми руками, могущая не только лежать и сидеть, но и ходить, и бегать, и вихрем мчаться на лошади. Что надо этим вещам, чтобы ожить? По-видимому, быть с ребенком в одном пространстве, участвовать с ним в игре; и, может быть, именно неподвижность этих вещей делает их в воображении особенно подвижными. Значит, для такого магического искусства характерно что? Прежде всего существование вещей в нашем пространстве, неимение своего изобразительного пространства и поэтому — неподвижность. Это все делает их похожими на архаических древнегреческих Аполлонов. Но они могли бы быть еще примитивнее. Эти черты мы наблюдаем еще в египетском искусстве. Для него характерно, что статуя, оформленная снаружи, внутри оставалась неведомой. Она таинственно внутри себя имела сердце и все внутренности и была хранилищем души. Как же это все воспринималось? Человек вчувствовал себя в эти изображения. Он вчувствовал себя в функцию, ставил себя на место этой вещи. Для детей это особенно характерно — быть паровозом, автомобилем, собакой, кошкой. Я помню спор двух мальчиков — где у паровоза фонари? Они определенно указывали место — на лбу и на плечах. Знали точно, что у паровоза — «плечи», и что — «голова». Это и позволяло им воображать все, с чем они встречались, движущимся, живым. В греческом искусстве, особенно в развитом, мы имеем совсем не то. Так, в рельефе дорического фриза, во фронтонах и в отдельных статуях (таких, например, как «Гермес» Праксителя) люди, их действия изображены в пространстве; с ними вместе изображается и пространство, в котором осуществляются их действия. Играть в такую статую нельзя. Зритель располагается как бы перед изображением, он по преимуществу становится зрителем, он находится вне изображенного пространства и только мысленно участвует в изображенном. Он способен уже относительно абстрактно (отвлеченно) воспринимать статую как изображающую пространство. Дорический рельеф и греческая статуя обладают пространственной глубиной, которая будет для нас понятнее, если мы вспомним пример Микеланджело. Говорят, что он, когда рубил «Давида», то сделал модель из воска, положил ее в ванну и спускал воду так, что ее уровень отмечал места, расположенные в одном плане. И так эта плоскость проходила насквозь, до конца. Тот же принцип характерен для метоп дорического ордера, для «Гермеса» Праксителя и других подобны? статуй. Для такого рельефа характерно то, что пространство мыслите как бы в виде плоскости, которая является двумя измерениями, движущимися в направлении третьего, и проходит все тела, которые, собственно, и изображают движение этой плоскости, то есть пространственную глубину. Такое изображение может нами созерцаться, мы можем его переживать, хотя вчувствовать себя в него не будем. Тем не менее в это время живут еще легенды о статуях, оживши:; то ли из-за красоты, то ли из-за чего-нибудь еще. Это отголоски старо го магического реализма. Итак, для греческого искусства в его дорическом ордере характер на прозрачность, как бы доверчивость всего изображаемого к изображающему. Не то в ионическом ордере. В архитектуре дорического ордера участвует пространственное решение рельефа, помогающее пространственно решить саму архитектуру. В ионическом ордере скульптура участвует в архитектуре функционально (например, кариатиды). И сам рельеф ионический строится так, что выникает на нас из плоскости архитектурной, и поэтом? он может существовать на круглом здании. Круглое здание характерно для ионического ордера, а в дорическом оно никогда не встречается. Дорический фриз состоит из метоп и триглифов. Он члените вертикальными членениями. Ионический же непрерывной горизонталью охватывает все здание. Интересно, что Пуссен, который упоминает ордеры, называя го модусами, придает им значение изобразительных гамм. Говорит, что ионический ордер должен изображать темы буколические, пастушеские; затем, как бы противореча себе, говорит о нем же, то есть об ионическом ордере, как о трагическом, могущем изображать трагическое Мне кажется, это потому, что ионический рельеф является как бы объемным рельефом, а не пространственным. Выступая на нас, он хранит в своих объемах неизвестное нам, чего не могло бы быть в пространственном рельефе. В этом смысле ионический рельеф или объемный, имеет нечто общее с египетским искусством или во обще — с древним. Но греческое искусство постепенно вымирает, и на место его при ходит раннехристианское искусство. И мы наблюдаем в позднегреческом и раннехристианском искусстве попытку создать вторично магический реализм, то есть сделать изображение живым. Ионический греческий рельеф, как и весь ионический ордер, приближается к зрительности дорического рельефа. Так, например, нигде, кроме древнейших рельефов с изображением Горгоны, фасовое изображение никогда не употреблялось, а всегда человек изображался в профиль. Таким образом, ионический рельеф нес в себе пространственные черты. Как и вообще ионический ордер в архитектуре становится близок к дорическому, смягчая свои черты. Но развитое греческое искусство — зрительное и пространственное — формирует зрителя, представляя собой в каждом случае как бы мир, в котором каждая деталь отвечает другой детали ритмически, по законам этого мира, диктует восприятию зрителя эти законы. И зритель, только возвысившись до этих законов, только поняв эти законы, может постичь произведение искусства. Беда, если у него есть посторонние мысли, посторонние требования — сколько стоит это произведение, хорош или плох этот художник как человек, какова мораль и так далее. Но особенно могут мешать мысли, которые нарушают границы созданного искусством мира. Это бывает, когда хотят сделать что-нибудь чрезвычайно живым. Это встречается иногда в надгробиях, могильных скульптурах, где хотят наладить связи с умершим. Вообще нарушение границ зрителю не позволено. Только цельность мира даст ему художественное произведение целиком, не нарушенным. В особенной (иллюзорной) живости есть что-то наивное и в то же время магическое. Я помню эскизы к памятнику Гоголю. Там в одном случае был изображен холм со скамейкой, на которой сидел Гоголь, к скамейке вела дорожка, как бы предлагая зрителю пойти по этой дорожке и сесть рядом с Гоголем. Что же из этого вышло бы — беседа с Гоголем? Едва ли. А произведение разрушается, его цельность нарушена. Но как я уже сказал, греческое искусство постепенно сходит к примитиву, и особенно примитивно раннехристианское искусство. Мы там находим тенденции ионического ордера. Вообще рельеф делается фасовым, что противоречит основному принципу спокойного рельефа, но помогает людям, изображенным на нем, обращаться к нам, общаться с нами. Фигура анфас становится чрезвычайно характерной. Так изображаются супруги на надгробных стелах, так изображаются ложи цирка с публикой и императором, так изображаются святые в равеннских мозаиках. Изображение человека строится по перспективе, относящейся только к нему, и можно сомневаться — основывается ли эта перспектива на луче зрения, идущем от зрителя, или на луче зрения, идущем от изображаемого. Таким образом, если в рельефе фас обострял функцию живости человека, то в мозаике или фреске эта живость особенно выявлялась во взгляде. Глаза глядели на вас. Это сказалось и в фаюмских портретах. Между прочим, настоящий их вид не тот, каким мы видим их теперь, то есть дощечка, а на ней изображена голова. А надо представить себе мумию, в которую этот портрет вставлен и кругом спеленут, и из мумии глядят на вас живые яркие глаза. Я думаю, что они могли даже пугать, до того они живые. И в то же время живостью своей они почти нарушали принципы искусства, общую гармонию, как говорит Гоголь. Искусство развивается дальше, и мы встречаемся с новым решением. Можно несколько схематично сказать, что ионический ордер был возможен на цилиндре, дорический ордер — на плоскости, а византийское изображение — на вогнутой поверхности, в апсиде. Изобразительная поверхность, которая таким образом создавалась, окружала нас и делала нас не только зрителями, но и участниками того пространства, которое было перед нами. Например, «Троица» Рублева — это тоже мир, но мы находимся в этом мире, беседуем вместе с ангелами за одним столом. Крайние контуры правого и левого ангелов являются внешним контуром и находятся вне поля нашего зрения. Я говорил раньше, что нелепо садиться рядом с Гоголем, а вот в данном случае, у Рублева, это возможно. Тут есть различие: к Гоголю стремился живой человек со всеми своими привычками, а к Рублеву — человек в своем образном воображении. Это происходит лишь в развитом византийском искусстве, где мы встречаемся со своеобразным пространством. Но до этого еще далеко. Искусство, работая над фигурой и делая ее смотрящей на нас, постепенно делает эту фигуру содержанием изображения, делает фигуру миром, пространством, в которое мы можем войти. Лицо ее становится глубиной. Глаза становятся, как это говорится, зеркалом души. Глаза этих фресок и мозаик уже не глядят на нас, а позволяют глядеть в их глубину. Это мы наблюдаем особенно в киевском мозаичном «Деисусе». Глаза как бы задумываются, и, воспользовавшись этим, мы входим в них. Так магический реализм — живое глядение фигур, превращается в глубину, пространство. В связи с этим характерно, что фасовое изображение почти совсем отпадает. Появляется очень много фигур, повернутых как бы вполоборота, и, в сущности, такие иконы, как «Все-держитель», как будто фасовые, строятся на контрастных профилях. Но мы встречаем попытки магического реализма и дальше и теперь. Когда хотят на нас непосредственно повлиять и сделать изображение особенно живым в обход искусству, то обязательно впадают в натурализм. Подтверждением этого могут быть скульптуры генуэзского кладбища. Ничего более отвратительного я не помню. Они не поддаются описанию. Фигура, сидящая на лавочке и протягивающая вам носовой платок; или жена и дочь, стоящие на коленях, почти на дорожке перед стеной, в окошко которой высовывается умерший муж, и так далее. Тут полностью главенствует стремление ввести изображение в наше пространство и тем сделать изображение совершенно живым. Эта тенденция есть во всяком натуралистическом искусстве. Плоскость изобразительная разрушается. В скульптуре фигуры с признаками пространства, но не организованного в целостный мир, общаются с нами, как привидения, пытаясь создать иллюзию, но не создавая ее. Когда я записываю эти мысли, то мне самому жалко фаюмские портреты и равеннские мозаики. Должно быть, дело обстоит так: всякое реальное изображение как бы бьется о магический реализм и находится на крайней точке, желая быть живым. Но оно все-таки не становится совсем живым. Ноябрь 1962 года |
