Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
а передняя — от нас, в результате чего мы и имеем тут дело с обратной цветовой перспективой. При постройке фактуры предмета мы пользуемся или спектральными, или нейтральными цветами (например, в персидской миниатюре — характер воды, сабель и прочее). В объемном цвете глубины быть не может; он будет иметь лишь два движения по поверхности — в ширину и в вышину. Примерами объемно-цветового решения могут служить картины Рубенса «Юпитер и Юнона» и Момпера — «Пейзаж» (Музей изящных искусств). Здесь 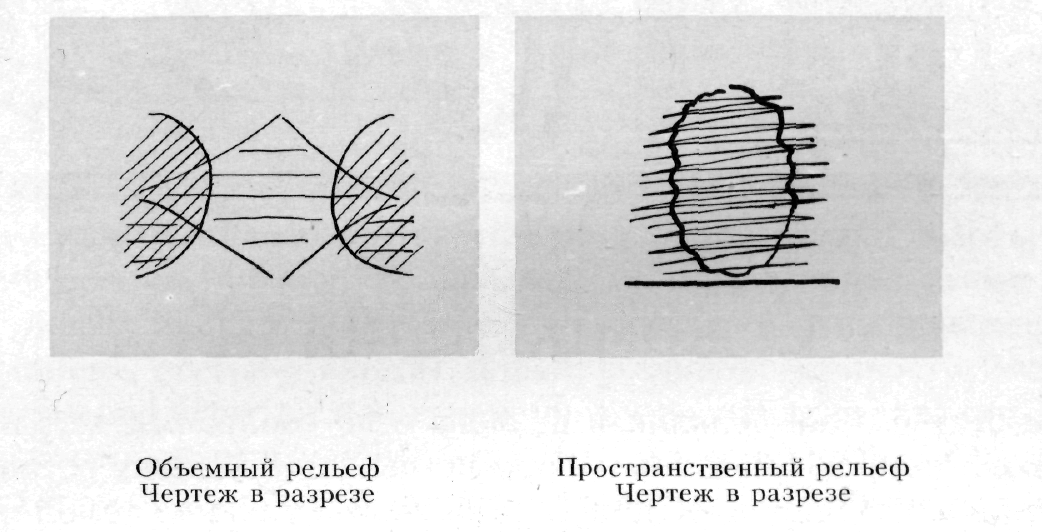 боковые формы — теплые и тяжелые — хорошо характеризуют поверхность, но и имеют большой объем; средняя же часть очень тонка и легка по цвету, а кроме того, в силу этого она кажется то тончайшим слоем, лежащим на поверхности, то — самым большим объемом. У Дюрера в картинах и гравюрах рельеф строится к задней плоскости; и рельеф, образуемый формами, своими возвышениями дает мнимую переднюю плоскость. Таким образом, Дюрер дает также объемное решение. Рельеф Пуссена занимает среднее положение между рельефами Рубенса и Дюрера, у него сжатое пространство и движение существует от передней плоскости зрения вглубь и обратно, но сжато. Полная уравновешенность пространственного и локального цветов. Пространственный цвет у Рембрандта уже теряет свою локальность; он изображает пространство, не видимое нами, и таким цветом, что дальше него мы уже не можем видеть. Его локальность теряет цвет, который ушел от нас, так что мы не можем сказать, что он тот же самый. Рельеф строится уже от нас и без конца. Впрочем, это не касается всех его работ, в офортах много решений и другим рельефом. [Вторая пол. 1920-х годов] 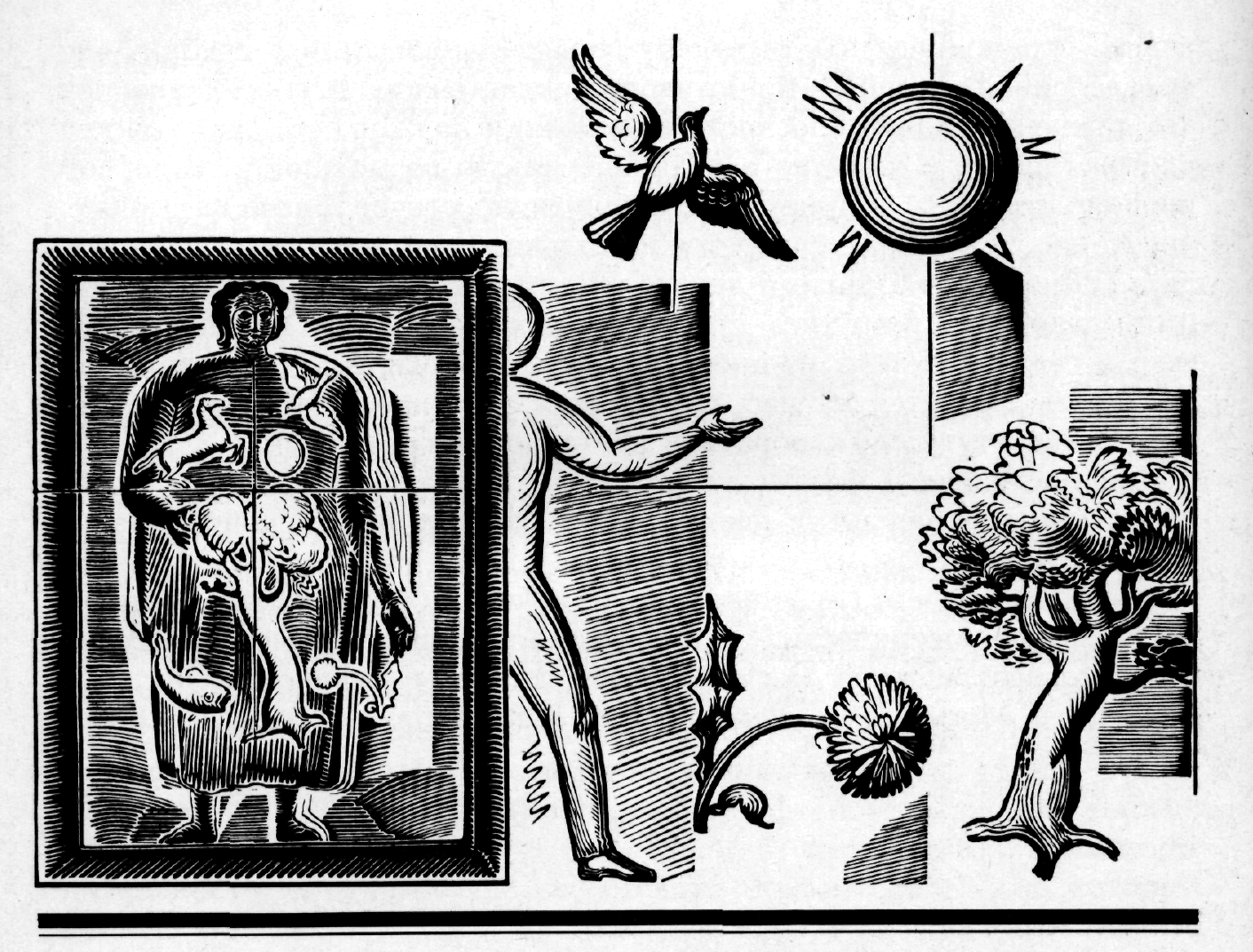 О композиции В этой статье о композиции я не могу и не собираюсь детально разбирать все вопросы методов и форм композиции. Я хочу остановиться только на некоторых проблемах, связанных с главной темой и являющихся основными. Такими проблемами, как мне кажется, будут проблема времени в изображении, проблема материала и формы материальной поверхности и проблема мировоззрения. На них я и остановлюсь. Проблема времени Существует мнение, рассматривающее композицию как особый процесс, особый способ, отличный от основного метода изображения. Есть, мол, правильный, точный, объективный, так называемый академический рисунок. Он не композиционен, он просто точно передает натуру и есть скорее техническое явление, чем художественное. Ком-позиция же является после, как некоторое более или менее произвольное украшение этого рисунка. Школа, имевшая такое представление о композиции, по большей части учила только «правильному» рисунку, а композицию предоставляла на усмотрение уже кончившего, считала это делом его совести и полагала, что композиция — это особый художественный уход от действительности, от «правильного» рисунка, какое-то нарочитое искажение натуры, может быть, даже художественное жульничество или, во всяком случае, хитрость, не поддающаяся сколько-нибудь объективной оценке и методически не связанная с изображением в целом. Такой взгляд представляет, следовательно, рисунок как точную передачу реальности и композицию как особый процесс, почти что трюк, меняющий это объективное изображение в художественно интересное. Взгляд этот самоочевидно ложен и, конечно, в том виде, как он здесь изложен, едва ли будет кем-либо принят. Но, не принимая его в таком грубом и явном виде, очень многие тем не менее говорят о так называемом академически правильном рисунке и тем самым, будучи логичны, должны бы были принять и отдельное, методически не связанное, существование композиционной проблемы как некоего рецепта делания вещей художественно интересными. Разберемся же по существу. Все, что нами воспринимается в действительности, воспринимается* нами в пространстве и во времени, и решительно ничего мы не воспринимаем только во времени или только в пространстве. Реальность, нами воспринимаемая, четырехмерна, а не трехмерна (четвертое измерение — время), поэтому и перед рисунком стоит задача изобразить время, если этот рисунок желает передать реальную действительность, а не является условным изображением препарированной действительности. Все, что мы воспринимаем, движется и живет. Скажем, мы можем относительно остановить это движение, например, посадить модель в определенную позу, но ведь мы сами во времени и, воспринимая, движемся. Скажем, мы можем сесть неподвижно и, так сказать, избрать точку зрения, но эта так называемая точка зрения имеет два глаза, мы бинокулярны и, следовательно, получаем движение как бы сжатое в момент, время — как бы данное в единовременности. Чтобы хоть условно приблизиться к вневременному восприятию, мы должны смотреть одним глазом и механически использовать его как объектив для проектирования натуры. Такое изображение, конечно, только условно будет невременным, так как глаз будет и один двигаться и использовать время для восприятия. Во всяком случае, с некоторой натяжкой, вернее, условно, мы можем для целей анализа, хотя бы оптического, принять этот опыт. Но мы ни в коем случае не можем считать такое изображение сколько-нибудь передающим действительность, так как она, то есть действительность, и временная и пространственная, а здесь мы имеем дело только с пространственным изображением. Примером может служить моментальная фотография движения хотя бы скачущей лошади или идущего человека. Это почти всегда нелепая поза, не передающая движения, и художник знает, что, только соединяя несколько моментов в одном изображении, он передает движение (исключением будут только случайные позы, заключающие в себе остатки прошлого движения и начало дальнейшего). Но, как уже сказано выше, и мы сами и сам художник находимся во времени, и восприятие натуры и изображение происходит во времени и должно методически его учитывать. Таким образом, изображение, претендующее быть художественным, имеет задачей организовать и изобразить время. Это будет иметь место и тогда, когда мы изображаем двигающийся предмет, и тогда, когда мы рассматриваем, ощупываем и изучаем относительно неподвижную натуру, ибо, повторяю, ощупывание и изучение происходит на основе нашей бинокулярности. Ведь известно, что, глядя на что-либо при помощи двух глаз, мы в той плоскости, на которую конвергируем наши глаза, имеем более или менее спокойное зрение. Все же и близкое, и все далекое двоится и, следовательно, дается нам как все время меняющее места справа налево и наоборот. Следовательно, и тут мы имеем дело с движением и со временем, которое должны либо изгнать, что возможно только условно, либо, при желании изображать реальную действительность, мы должны учитывать хотя бы это чисто зрительное движение. Но, конечно, и зрение ведь не отгорожено от осязания и двигательного восприятия китайской стеной, и поэтому зрительное движение потянет всегда за собой более или менее полно все чувства воспринимающего человека. Итак, изображение, и в том числе всякий рисунок, организует и изображает время, и, следовательно, здесь обязательно должен встать вопрос о цельности изображения, так как, давая разновременное, мы должны дать его цельно, как бы единовременно; передавая динамику, мы должны в изображении дать динамику-статику; тогда как чисто пространственный, условный рисунок не должен думать о цельности изображения, так как он механически приходит к единовременности и стремится к буквальной статике. Если эти рассуждения правильны, то так называемый «правильный» академический рисунок в сфере художественного изображения не существует, а есть условный метод проекции при помощи одного глаза; а каждый рисунок, претендующий на художественное изображение действительности, имеет задачей цельно изобразить реальность, живущую в пространстве и во времени, а следовательно, имеет задачу композиционную. Одно из определений композиции будет следующее: стремление к композиционности в искусстве есть стремление цельно воспринимать, видеть и изображать разнопространственное и разновременное. Если так определить понятие композиции, то станет ясно, что она не есть придаток к изображению, не есть украшение, а есть основной момент изображения, по-разному проникающий разные произведения, так как цельность может быть большая или меньшая, цельность может быть разного характера. Но отсюда не следует, что такой композиционный рисунок не будет правильным и правдивым. Его правильность и правдивость не может быть проверена только верностью относительно пространственных координат, так как необходимо принять во внимание и координату времени. Следовательно, тут возникает вопрос о цельном решении, о синтезе в конфликте предмета с пространством, с движением и временем. Стремясь к цельности изображения, я могу стремиться либо к зрительной, либо к двигательной цельности (это, конечно, обусловливается темой, материалом, условиями восприятия), могу либо удовлетвориться тем, что установлю различные моменты времени в ритмический ряд, изображу действительность, пользуясь явно временем, организуя его. Примеры: фриз, изображение на объеме, вазе, иллюстративный ряд в книге, кино и т. п. Или можно стремиться к тому, чтобы действительности, расположенной во времени и пространстве, придать цельность зрительного образа, зрительную цельность. В первом случае мы явно переживаем само движение-время при восприятии произведения и получаем двигательную цельность; во втором случае получаем при непосредственном восприятии зрительный, единовременно воспринимаемый образ, при анализе раскрывающийся тоже как временной, с той разницей, что в нем время уже оценено как прошлое и настоящее, причем настоящее совпадает с композиционным центром. Двигательную форму цельности мы можем назвать конструктивной формой, форму же зрительную — собственно композиционной формой. Приведение в произведении изобразительного материала к двигательной цельности будет конструкцией. Приведение к цельности зрительного образа будет композицией. Крайней формой конструктивного изображения будет кино или фотомонтаж, где ритмическое движение аппарата может вылепить фигуру, может нарисовать пространство. Тут мы будем иметь отдельные моменты, соединенные движением, воспринимаемые во времени. Ритмизация времени-движения будет основным в таком изображении. Крайней формой композиционного решения будет станковая картина, в которой проблема конца покрывается проблемой центра, где мы время как бы завязываем узлом и где оно оценивается нами как прошлое и настоящее — прошлое, стоящее за спиной и окружающее нас, и настоящее — центр композиции, все объединяющий, в который мы углубляемся. Если говорить о цельности временной формы, то время, или движение, может иметь три формы. Первая форма — когда мы сами находимся в движении и не знаем ни начала, ни конца, только ощущаем движение как равномерное и непрерывное. Второй тип времени, или движения, когда мы, находясь, например, на подъеме горы, видим вершину, знаем о начале подъема и предполагаем по аналогии о конце спуска. Если первая форма времени есть форма материала и массы, то вторая форма есть форма конструктивная, в основном свойственная почти всякому литературному произведению. Мы здесь имеем уже членение этого движения на начало, середину и конец, причем, в частности, проблема конца играет роль для многих пространственных произведений, а для литературных она является основной, без решения которой не оформляется ни одно произведение и на которой могут легко спекулировать дурные произведения авантюрного характера, как у нас — на иллюзионизме. Но может быть и третья форма. Мы знаем целый ряд литературно-художественных произведений, которые начинают с конца и тем самым делают конец не спуском с горы, не вынужденным изживанием инерции, а центром, к которому все предыдущее является объяснением. Тут мы имеем дело со своеобразной обратной перспективой во времени, и это возможно, конечно, когда конец идейно является началом всей вещи, причиной возникновения ее и когда мы не только со стороны смотрим на движение-время, а, зная каждый момент как деталь цельного события, смотрим на него как бы вдоль и видим все моменты сразу. Такова форма времени в наиболее цельно построенных литературных произведениях, и такая форма времени может быть названа композиционной. Все это более ясно в сфере литературы, но все эти моменты дают объяснение и временной форме пространственных произведений. В пространственном искусстве мы имеем различную организацию времени. Архитектура, скульптура и живопись в некотором отношении формуют время по-разному. Но если мы будем рассматривать только изображение на поверхности, то и тут можно установить целый ряд различных построений времени. Например, у египтян мы видим рисунок человека, изображенного с разных точек зрения, он как скульптура на плоскости, которая дает целое из разновременных кусков. Затем мы видим греческие фризы, помпейскую живопись, некоторых художников Ренессанса, как Гирландайо и других, которые человека берут не с точки зрения, а в плоскости зрения, и поэтому строят движение по горизонтали, давая некоторое подобие фриза со многими или немногими центрами, объединяющими все движение. Наконец, формы изображений, близких к барокко, где замкнутая поверхность организуется центром, причем это уже определенно зрительный центр и вся вещь как бы управляется одной зрительной точкой. Таковыми будут Византия, русская древняя живопись, Микеланджело, Эль Греко, Сезанн, Дерен, Пикассо и другие. Тут интересно отметить, что чем непосредственнее и, так сказать, сырее мы пользуемся временем, как это имеет место в кино, в фотомонтаже, тем элементарнее мы организуем наш материал и, с другой стороны, предметы, нами изображаемые, менее страдают, менее изменяются ради пространственной цельности. И наоборот, при нашей неподвижности развивается чрезвычайная зрительная активность, использующая двуглазие нашего зрения, и тем самым в попытках соединить уже не двигательно, а зрительно различные моменты зрения дает чрезвычайно богатое изображение пространства и при этом часто нарушает статику предмета и его обычные контуры страдают. Примеры этого мы имеем в иконе, у Эль Греко, у Сезанна. Вообще говоря, все подобного рода композиции строятся на двуглазии нашего зрения, которое дает нам исключительный опыт точки зрения, насыщенной движением, опыт объединения в единовременность разновременных моментов. Проблема материала Существует целый ряд произведений, которые только технически учитывают материал. Таковым является всякое крайне иллюзионистическое произведение. Иллюзионистическое произведение ставит своей задачей уничтожение материала как материала и получение иллюзии какого-либо пространства. Таким образом иллюзионистическое произведение берет холст, краску и т. п. и уничтожает все это как материальную форму. Вы должны получить впечатление, что поверхности холста нет и что это не краски — охра, киноварь и т. д., а люди, вещи и т. п. Полная иллюзия, конечно, невозможна в станковой картине, и тогда приходят к панораме или диораме, где возможно еще большее уничтожение материала. Но и там, конечно, иллюзия нарушается, так как все это основано на точке зрения и на одноглазом смотрении, а мы, к счастью, двуглазы и имеем тенденцию не сидеть на месте, а двигаться. Вообще было бы очень важно поговорить об иллюзионизме, о его страшных сторонах. Он страшен и в живописи и в скульптуре. Если кто-либо видел надгробные памятники западных кладбищ XIX века, например, генуэзского, тот знает почти жуткое чувство при столкновении с этими мертвецами паноптикума. Эта мертвенность и получается в результате того, что материал пытаются уничтожить иллюзионистически. Он не участвует в художественной форме как явление практического нашего пространства, его прячут, а он вылезает сам при разностороннем рассмотрении вещи (ведь мы не только зрительные люди), и мы получаем мертвую по материалу вещь. Один из грехов иллюзионизма заключается именно в непризнании за материалом его чувственной материальной формы. И мы можем поставить вопрос о том, будет ли такое искусство реалистическим, не будет ли необходимым для реалистического искусства и реалистическое признание художественной формы материала. По-видимому, изображение строится с двух сторон. С одной стороны — идея, с другой стороны — материал. В скульптуре мы знаем, что художник, прежде чем рубить из камня какую-либо фигуру, осмысливает сам камень как пространственно типичную форму. Эти формы в разных стилях будут разные, и они, конечно, обусловливают всякое изображение. Таким образом, с одной стороны, отвлеченная от идеи, но конкретная в смысле материала форма, с другой стороны — идея конкретная в отношении мысли, но отвлеченная в материале. Они сходятся, проникают друг в друга, преобразуют друг "друга и живут как одно произведение, не уничтожая друг друга. Получается как бы художественная метафора, доведенная до предельной цельности. Человек изображается деревом, камнем, медью, стеклом и т. п. Разные произведения искусства по-разному берут то и другое. Негры больше работают над отвлеченно ритмической формой, так же и Сезанн, Пикассо; другие художники — больше над идейной (смысловой) стороной. Но взаимодействие той и другой необходимо для реалистического произведения. В связи с этим мы можем ставить вопрос и о реализме в так называемом прикладном искусстве и говорить об опасности со стороны родного брата иллюзионизма — декоративизма, связанного с верой в плоский рисунок, в плоское изображение. Люди, верящие в необходимость иллюзионизма, верят обычно и в то, что существует и может существовать плоский рисунок. На это необходимо ответить, что полный иллюзионизм невозможен и, конечно, он ложен как тенденция, так как разрушает метод изображения, превращая его в технический способ, а плоское изображение вообще невозможно, фактически не может состояться. Всякое пятно, хотя бы черная тушь на белой бумаге, есть уже форма. Ведь и механически рассматривая — это не плоскость, а рассматривая как форму и имея разные качества и разные количества, мы никак не имеем плоскости. В пятне, хотя бы даже ровном по цвету, уже контуры дают ему большую или меньшую массивность. Уже пролитая - лужа туши выражает массу, идет борьба между тяжестью влаги и сухостью бумаги, и получается моделировка массивности в краях и берегах пятна. А художник, верящий в плоское изображение, не стремится сорганизовать его в плоскостно цельное изображение и тем самым дает цвету и пятну полную волю разрушать и нарушать поверхность. Таким образом, материал входит по существу во всякое изображение, встреча с материалом есть уже встреча с формой. Поэтому, как в метафоре, не все можно изображать любым материалом, и реализм обусловливается не только конкретностью художественной мысли, но и конкретностью формы материала. Все это действительно для живописи или графики так же, как и для скульптуры. Одним из проявлений материала будет материальная форма изобразительной поверхности. Материальная форма изобразительной поверхности по существу входит в метод изображения. Мы можем проследить, как меняется метод восприятия, если мы работаем с натуры, и как меняется метод изложения темы, форма композиции, когда мы используем различные поверхности. Если взять бумажную поверхность, керамическую, текстильную, архитектурную и разного рода станковые поверхности, от доски до холста, то все они будут менять изображение, строить его по-другому и по-другому обогащать. Первым моментом, влияющим на метод изображения и на форму композиции, будет геометрическая форма поверхности; вторым, связанным с первым,— ее массивность или отвлеченность в смысле массы и в связи с этим фактура, строение, цвет, тяжесть и т. д. Взяв любую тему, мы можем проследить, как по-разному она изложится на шаре, на цилиндре, на беспредельной, неограниченной поверхности, на замкнутой, ограниченной, небольшой плоскости. Какое-нибудь историческое событие развернется в своей временной последовательности где-нибудь на фризе, или на цилиндре, или в книге на последовательном развороте страниц, и оно же на станковой поверхности выделит из себя центр — то, что объединит и свяжет все событие в одно целое и подчинит второстепенные части главному. Сделает так, что в одном случае мы будем иметь непосредственное действие, жест, в другом случае, на станковой картине,— внутреннее переживание, психологию. Геометрическая форма будет влиять непосредственно и тем — будет ли она сама по себе двигательного характера, или будет зрительно восприниматься цельно. Выраженность поверхности в смысле массы будет, конечно, зависеть от геометрической формы гнутой поверхности и от формы краев правильной плоскости. Толщина плоскости даст разное выражение поверхности в смысле массы. Возьмем квадратную плоскость и задумаем на ней пространство с глубиной. Если эта плоскость с толщиной бумаги или фанеры, мы, по-видимому, можем строить более или менее глубокое пространство. Если же эта плоскость будет получать все большую и большую толщину и превратится в куб, то большая глубина на этой плоскости уже невозможна в силу того, что наша плоскость стала уже поверхностью объема и, будучи тем самым границей массы, скульптурной поверхностью, не может стать базой для организации глубины. А если мы все же изобразим большую глубину, то мы получим конфликт между изображением и скульптурностью куба. Итак, через изобразительную поверхность материал будет обусловливать композиционный строй в его основных чертах и, конечно, будет влиять и на отношение изобразительного метода к моменту времени, к организации движения. Станковая картина, имеющая изобразительной поверхностью обрамленный холст, будет, по большей части, строить пространство центрально, давая событие более или менее едино-1 временно, а стенная живопись, имея поверхность, по массе сильнее выраженную, рассматриваемую во времени, будет строить композицию эпически, идя по многим остановкам, по многим центрам. Поверхность в зависимости от формы будет иметь тенденцию стать либо окном в пространство, либо зрительной плоскостью, начинающей глубину, или двигательной поверхностью, на которой развивается объем и профиль, либо просто конкретной землей, почвой, на которой ходят, живут люди, как это бывает в рисунках детей. Далее, относительно пятна. Я говорил уже, что в скульптуре масса должна стать сколько-то цельной формой еще до того, как мы вдумываем в нее какую-либо идею, и, конечно, цельность этой формы позволит вдумать в себя то или другое, обусловит замысел. Эта отвлеченная по мысли форма может уже сама по себе быть цельной либо по какой-то функции — стояния, стремления вверх и т. п., либо по цельности поверхности как объема, либо по выраженности в смысле глубинного рассматривания. Так точно и пятно. Беря цветовое пятно, мы имеем дело с массой, и если мы еще не знаем, что это, как это называется, тем не менее мы не имеем права брать это пятно только зрительно, декоративно; оно — масса, весит, может иметь глубину и т. п. Таким образом, пятно, связываясь с плоскостью и имея различные, хотя бы элементарные функции, уже живет как некий предмет в некоем пространстве, и, конечно, будет существенным и цвет и материал этого пятна. Есть анекдот о том, что Суриков задумал «Боярыню Морозову», увидав ворону на снегу. Мне представляется, что и тут, как в скульптуре, мы имеем встречу материала с идеей, причем и то и другое уже при встрече — в какой-то мере форма, но одна конкретна по мысли и отвлеченна по материалу, другая по материалу конкретна, но не выражена по мысли. Мне кажется, что с этим вопросом связано изживание конструктавистического загиба, не признававшего изображения зрительной действительности, так же как и загиба ахровского, не признававшего за отвлеченной формой, хотя бы за архитектурной, образности и идеологичности. В связи с этим, мне кажется, решается вопрос об орнаменте как об особой отрасли реалистического искусства, как результате художественного реалистического подхода к материалу, а не как стилизации под какую-либо эпоху или декоративное, чисто зрительное использование пятна. Я считаю методически неправильным противопоставление содержания форме. Содержание должно противопоставляться материалу. Но в этой статье вопроса этого не поднимаю и пользуюсь обычной сейчас терминологией. |
