Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
Но как же бороться с этим? Надо вспомнить, зачем все это начиналось; ведь начиналось это постройкой предметом пространства, и поэтому спасти от такого хаоса может только предмет, он должен вернуть себе значение, отнять у точки симметрии главенство и стать зрительным центром, которому, при посредстве осей симметрии, подчинились бы другие предметы. По-видимому, таким образом, зрительный центр, связанный с предметом, является якорем спасения при симметрических построениях; иначе все нарушится и предметы завертятся в равномерной пляске ради центральной точки. Примером художника, работающего очень много симметрией, можно взять Тинторетто, который при всей своей ценности часто стоит на границе опасности потерять предмет ради точки. Но тем не менее на его работах мы можем часто увидеть замечательные решения. 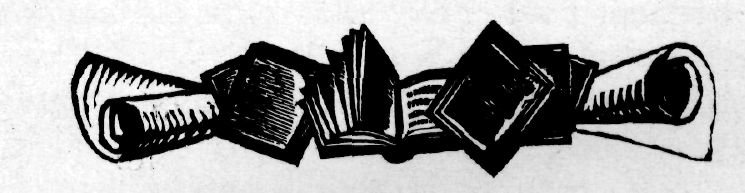 СЕМНАДЦАТАЯ  Продолжение о симметрии Композиция в крайнем, узком, смысле Композиция или конструкция Значение диагонали Когда мы говорили о построении пространства при помощи предмета, мы брали почти весь Ренессанс и в конце концов пристегнули сюда и 16 век, то есть Тинторетто, и как бы сделали переход даже к более позднему, то есть к барокко и к Болонской школе. Обобщать, конечно, можно, но нужно стараться в то же время и различать. Поэтому мы постараемся сейчас это сделать. Мы имели право сказать, что так либо иначе картина строилась предметом. Но каким и что получалось в результате? По-видимому, и .предмет менял свою физиономию и свое значение, да и результат получался совсем другой. Джотто, Мазаччо, Гирландайо, Перуджино, Рафаэль, Микеланджело и, наконец, Тинторетто. Ясно, что в них много различного; но есть и такие, которые при всем различии тем не менее имеют основное общее. Таковы, например, Джотто и пизанцы. Синьорелли и Микеланджело [тоже] имеют много общего — в том, что они никогда не отрекаются от вертикали и в отношении к фигурам и пространству. Я бы сказал, то и другое обладает [у них] некоторой квадратностью. Мазаччо до известной степени к ним близок, а Гирландайо, Перуджино, Рафаэль составляют другую, правда очень широкую, группу. Различие между ними можно установить прежде всего в отношении роли объемной оси предмета и зрительной вертикали. Так как Джотто редко, почти никогда не валит объемную ось, но по большей части оставляет ее в вертикальном положении; а Микеланджело, если и кладёт фигуру, то тем не менее снабжает ее очень сильно действующей вертикальной осью, но и там и тут фигура как объем своей осью утверждает вертикаль пространства, а следовательно, и сама фигура у Джотто есть как бы вертикальный сталактит или кристалл пространства, а у Микеланджело, имея и такое значение,— становится в то же время и центром зрительным и пространственным. Итак, фигура, отдельный объем имеют, как я уже говорил раньше, все типичные качества пространства. Только у Джотто — как бы на периферии, на границах, а у Микеланджело — и внутри каждой его фигуры. Таким образом, качества пространства воспринимаются совместно с качествами предмета и объема. Если же мы возьмем теперь другую группу, то там окажется, что часто оси фигур расходятся с вертикалью, то есть расходятся с основной пространственной осью, а только так либо иначе относятся к ней. Если мы будем наклонять объем, фигуру, то и ось объема, конечно, наклонится, этот наклон мы будем чувствовать относительно вертикали (можем и относить к горизонтали); таким образом, мы как бы выигрываем, так как, имея уже вертикаль, мы приобретаем новую линию, секущую вертикаль, пересекающую последнюю, следовательно, устанавливаем таким образом плоскость гораздо сильнее. Это преимущество несомненно. Но в связи с этим кое-что теряется, причем очень существенное. Предмет разобщается с вертикалью, последняя теряет реальность своего образа и остается как наша мысленная линия, как элемент нашего восприятия; с другой стороны, и предмет как бы получает возможность уйти от пространственной типичности — его ось получает случайный наклон, ограничивается в своем значении, словом, предмет получает возможность блуждать и так либо иначе относиться к главным пространственным осям. Такой наклон оси предмета является причиной совершенно нового отношения как к предмету, так и к пространству. Словом, если мы не при помощи оси предмета, а при помощи его контура устанавливаем вертикаль, то это наше действие сразу, дает намек на некоторое распадание. Тут явно, что мы пользуемся предметом как некоторым подсобным средством для того, чтобы установить вертикал*. Вертикаль будет целью; предмет, в данном случае его контур, будет средством. Этого не получалось ни у Джотто, ни у Микеланджело — предмет и качества пространства воспринимались неразрывно, чтобы создать пространство, предмет стремился ему уподобиться. Здесь же получается использование предмета, игнорируя его цельность и существо, и лишение вертикали реального объема. Хорошо еще, если предмет не теряет своей оси, тогда он сам может стать целью и это будет служить некоторым удовлетворением. Но может быть и так, что он постепенно потеряет острое выражение оси и тогда он совершенно унижается и становится явно подчиненным средством, которым строится нечто, в чем он своим существом не участвует, в духовных качествах чего у него нет почти никакой доли. Итак, тут мы видим, что можно строить пространство и строить там и тут отношение к предмету, но, как мы увидим, и результаты постройки будут различными. Но раз в метод входят такие понятия, как средство, то есть нечто подчиненное, и какая-то цель, то есть нечто главное, то сам метод уже терпит ущерб в своей цельности. До сего времени мы рассматривали композицию просто как один из методов изображения, но теперь, по-видимому, мы встречаемся с композицией, которая не есть метод изображения, а существует как бы помимо его, не связана с основой изображения, есть либо бесплатное прибавление, либо, наоборот — единственная цель, игнорирующая и тему и предмет, может быть и пространство, то есть изобразительность. Представим себе, что мы изображаем диалог. Мы имеем две вертикальные оси, два центра, равноправные или почти равноправные, между которыми возникают взаимоотношения, борьба и так далее. Мы изображаем эти взаимоотношения, и у нас возникает между ними образ какого-то пространства, выражающийся, может быть, в горизонталях или в повторениях вертикали, либо даже в диагоналях. Это сейчас все равно. Положим, мы получили таким образом фигуру буквы Н или хотя бы И. Что у нас получилось? Композиция, но в то же время и тем самым и изображение диалога. Композиционность и есть в то же самое время наивысшая образность. Но предположим, что композиционная схема почему-либо особенно привлекательна, тогда мы можем выполнить ее при помощи каких-либо элементов, пользуясь контурами, складками и так далее, или, наоборот, какое-либо происшествие, которое нам надо изобразить, покроем, так сказать, сдобрим какой-либо композиционной схемой, для того чтобы это происшествие было бы на вид приятнее. Конечно, оно получит таким образом плоскостность и будет легко воспринято, но тем не менее в том и в другом случае композиция будет сначала отделена от изобразительного метода; в первом случае она будет целью, и чтобы ее воспринять, мы должны будем забыть об изобразительности; во втором случае она будет поправкой к изобразительности. Словом, и там и тут мы можем говорить не о композиционном методе изображения, а о композиции в узком смысле, которой учила академия, основывая свою изобразительность на перспективе. Вот к каким страшным вещам ведет наклон фигуры и обнажение вертикали как мысленной линии или изображение ее каким-либо контуром или складкой. Но это, конечно, только зародыш, а почвой, на которой это развивается до крайних пределов, является симметрия. Симметрия, основывающаяся на одной вертикальной оси, конечно, недостаточна для этого, но симметрия сложная, двуосная, ключом к которой является точка, является тем полем, на котором композиция может легко отпасть от изображения, разобщиться с ним. Почти каждая картина, построенная по осям симметрии, в своей основе имеет вертикальную и горизонтальную оси, пересекающиеся в центре; и затем диагонали из угла в угол, проходящие через ту же точку, причем эти диагонали имеют тенденцию умножаться до бесконечности, так что в пределе получится точка, из которой выходит во все стороны масса лучей. Так как это все оси симметрии, то они стараются не пройти через объемы как-либо центрально, так как тогда бы не возникло новых иллюзий симметрии, а стремятся коснуться объемов либо по контуру, либо внутри контура, но далеко от объемной оси. И то и другое обнажает оси, оставляет их как бы голыми, мысленными; а последнее — когда ось симметрии проходит по фигуре, не считаясь с объемной осью,— еще грубее, так сказать, обращается с фигурой — мнет ее, заставляет вращаться, складывает по линии, для фигуры совершенно нелогичной, и таким образом разрушает ее как объем. Итак, в самой природе симметрии есть черты того, что ее оси стремятся обнажиться и не считаться с осями предметов; но если мы обратимся к точке симметрии, то она-то уж всегда обнажена. Она есть как бы мысленный центр картины, ухватившись за нее, вы имеете все нити, связывающие изображение. Но ничто не может ее изобразить, то есть что-либо изобразительное [не может] выпасть на ее место, так как тогда-то она не будет так сильно чувствоваться. Итак, когда изображение пользуется симметрией, то вводит в картину систему мысленных линий, которые не считаются с существом предметов как объемов; таким образом, изобразительный метод как бы распадается и может возникнуть спор: что в картине существеннее — эти композиционные линии или тема? Одни будут говорить одно, другие — другое; но во всяком случае в крайнем пределе, про который я сейчас и говорю, соединение воспроизведения предметов и композиции, в узком смысле этого слова, есть некоторая спекуляция. Собственно композиция не нуждается в фигурах и может быть заполнена и чем-либо другим, а воспроизведение по существу тоже не нуждается в композиции и может существовать само по себе. Все это мы видим в начатках как у Тинторетто, так и у Греко и, в конце концов, через старую и новую академии [это] приводит к современности. Композиция — не как определенный метод изображения, а как суррогат этого изображения, по существу как украшение. Отсюда и то отрицание изобразительности — совершенно справедливое, если так понимать композицию, которое мы видим у супрематистов; справедливое, так как искусство ничем не должно пользоваться только отчасти, а все, чего оно касается, должно использовать по существу. Таким образом, возникает понятие об организации плоскости. Ранее плоскость была изобразительным принципом и давала образ объему и пространству. Теперь уже плоскость сама по себе становится terra incognita, которую нужно организовать, и раз это можно сделать помимо всякого изображения, то тем лучше, тем чище будет эта организация от компромиссов. Но это предел, к которому приводит хотя бы маленькая трещинка в изобразительном методе, и мы должны вернуться вспять к тому, от чего мы шли. Итак, композиция, основанная на симметрии, имеет мысленные линии и точки, которые составляют связь между предметами, суть ключи к их уподоблению. Так вот, если встать на сторону предметов, то есть если исходить от какого-либо предмета и вязать его с другим каким-либо через уподобление, то тогда симметрия явится, правда, несколько нарочитым, но действительным средством к такому установлению связи между предметами. Но если мы возьмем и рассмотрим картины Тинторетто и спросим себя: есть ли в них какой-либо зрительный единый центр,— то у нас всегда возникнет спор между различными моментами. Особенно, конечно, будет спор между каким-либо предметом и точкой симметрии. Этот предмет может ее победить своей вещественной тяжестью или смысловой значительностью, но все-таки мы заметим, что мы отлучаемся от него, двигаемся по картине и опять возвращаемся к нему обратно. В иконах, например, такого путешествия не получается; там боковые области стремятся сами попасть на центр, и хотя бы в наклонной фигуре центр этот очень определенно характеризуется вертикалью. Но в предметах, поставленных в зависимость при помощи симметрии, по-видимому, тяготение друг к другу не настолько сильно и, кроме того, никакой из них не получает какого-либо преимущества по своему положению, чтобы подчинить себе все остальные; поэтому-то и возникает путешествие с возвращениями, правда, к первоначальному исходному пункту. Но это путешествие должно как-либо строиться, должно обладать простотой. Как мы можем ясно увидеть, если посмотрим на схему осей симметрии, самыми активными из них становятся наклонные оси, диагонали. Поэтому естественно, что они в подобном изображении могут играть первенствующую роль. О диагонали мы еще не говорили. Она нам почти не встречалась, если она и была в Византии, то всегда побеждалась вертикалью. Качества диагонали стоят в ближайшей зависимости от степени осознания вертикали и горизонтали, ее качества зависят от них, поэтому в древнем искусстве, где вертикаль и горизонталь только устанавливались, диагональ и не могла иметь никаких качеств, она была бы просто одним из неопределенных направлений, более даже неопределенным, чем другие. Свои качества диагональ приобретает на плоскости, имеющей вертикальные и горизонтальные границы, относясь к которым она и получает определенность. На такой поверхности диагональ — одна прямая линия — тем не менее может определить плоскость. Но рассмотрим другие ее качества. Мы видели, что вертикаль зрительна, горизонталь — двигательна, хотя и может стать осью объемной и зрительной. Диагональ тоже может стать объемной осью, но зрительной — по-видимому, никогда. Отсюда естественно спросить: статична она или двигательна,— и придется ответить на последнее утвердительно. Итак, диагональ двигательна, но мы ведь имеем две диагонали — вправо вверх и влево вверх. Различны ли их движения? Можно утверждать, что одна из них воспринимается главным образом вправо вверх, другая — слева вниз направо. Отчего это происходит, что одна кажется подъемом, другая — падением? Трудно сказать, но можно было бы поставить опыт, который подтвердил бы это. Но сейчас это нам неважно. Для нас существенно, что одна из осей симметрии, которая во всей системе как раз очень активна, обладает двигательным характером. По-видимому, в связи с этим она и является тем главным путем, по которому идет движение от предмета к предмету по системе симметрии; это, так сказать, большая дорога симметрии, на которой расположены все главные центры, которым в свою очередь подчинены при помощи либо вертикалей, либо других местных диагоналей второстепенные предметы. Путешествуя по ней от пункта к пункту, зритель овладевает всем изображением, но существенно то, что это путешествие совершается туда и обратно, начинается в одном конце, поднимается или опускается до другого и опять обратно, иначе это путешествие могло бы быть бесконечным, но во всяком случае если оно и ограничено, то непринципиально, во всякой вещи оно могло бы быть продолжено, и это существенно ничего бы не изменило. Но что же, таким образом, оказывается? Система симметрии, которая старалась объединить всю плоскость, все предметы и пришла в конце концов к тому, что все ей подвластно, что равно как раз обратному, пронизывается линией, одной из ее осей как организующей движение. Этим способом симметрия является только полем действия, на котором главным, строящим все, будет только одно диагональное направление или два перекрещивающихся. Этим в симметрию, клонившуюся к безразличию, вводится новый принцип, который ее использует в целях главного организующего движения. Поскольку это есть организация движения в двигательную цельность, мы тут уже имеем дело с конструкцией, хотя эта конструкция возможна только на основе композиционно цельной изобразительной плоскости, а возникает она, по-видимому, в силу того, что композиционность начинает существовать как бы отдельно от изобразительности, композиционный центр оголяется и не вяжется с предметностью. Но в то же время в этом есть некоторое пренебрежение к изобразительной плоскости, которая как бы только используется для более или менее сложной двигательной стройки. 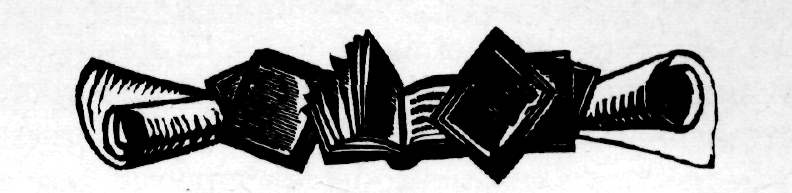 ВОСЕМНАДЦАТАЯ  О цвете и цветовых формах В сущности, может быть, не совсем правильно выделять цвет и цветовую форму в какой-то особый отдел, так как и в том, что мы рассматривали раньше, цвет играет часто значительную роль, но тем не менее с цветом в средства изображения и в метод изображения привходит нечто новое, в силу чего и можно выделить цвет в особый разговори, начав с анализа цвета, прийти уже к тем формам, которые на основе его создаются. Как можно определить цвет? Цвет есть прежде всего качество поверхности, воспринимаемое нами при помощи зрения. Но этого мало, так как и шероховатость мы тоже можем воспринимать глазами, но представление о шероховатости не будет цветовым представлением, и в сущности не будет и зрительным, так как тут мы при помощи зрительных ощущений создаем себе представление осязательной формы поверхности на основе осязания, словом, осознаем это качество осязательным сознанием. Итак, отсюда следует, что цвет не только воспринимается нами при помощи зрения, но, кроме того, есть качество, нами зрительно осознаваемое; цвет, таким образом, есть качество не только видимое, но изрительное, не только воспринимаемое зрением, но и зрением непосредственно представляемое обдумыванию. Но как, с одной стороны, это обособление помогает нам понять, что такое цвет, так, с другой стороны, не надо забывать, во-первых, что цвет есть качество, как и всякое другое, и, может быть, на полюсах цветового спектра мы и не найдем определенных границ, а обнаружим постепенный переход в качества, подведомственные не зрению; во-вторых, и само зрение, если в нем разобраться, имеет в себе различные моменты, и мы можем говорить о собственно зрительном моменте и об осязательном моменте в зрении и о многих других. Словом, как мы это увидим дальше, раз всякое восприятие материалом своим имеет движение, какую-то пространственную и временную форму, которое только разно осознается, то и зрение в своей специфической области, а тем самым и цвет, может рассматриваться как некоторое оформление нашим сознанием воспринимаемого движения, и тем самым мы получаем аналогичные моменты с осязанием и с двигательным чувством. И вот тогда-то мы, быть может, и сможем определить цвет — исходя уже от общего, от соседних областей,— как форму, движение, по преимуществу, не осознаваемое таковым, а воспринимаемое композиционно, то есть не как состояние, а как непосредственное качество. Но, как я уже говорил, нам, чтобы достигнуть этого, необходимо прежде разрушить обособленность цвета и для этого рассмотреть его как некоторое движение относительно нас, воспринимающих его. Здесь нам необходимо оговориться; когда мы говорим о движении цвета, [то] о каком движении мы, собственно, говорим? Так называемая динамика цвета, цвет динамичный в противоположность статичному, то есть переход цвета в цвет, разбег цвета и так далее, собственно, нас сию минуту не занимает, хотя мы и должны будем в свое время разобраться в них, но движение, о котором мы будем говорить сейчас, принадлежит, собственно, так называемому статичному цвету. Этот последний род движения по преимуществу зрительного порядка, тогда как динамичный цвет, его движение — порядка скорей осязательного. Итак, когда мы останавливаем цвет и делаем его более или менее статичным в двухмерном направлении, цвет начинает приобретать некоторые качества, которые ему как цвету по преимуществу свойственны. Во-первых, он дает нам определенное представление о фронтальной нам плоскости, воспринимаемой нами в отношении двухмерности композиционно, то есть не построением, а непосредственно, элементарно. Это во-первых. Во-вторых, цвет, укрепившись таким образом, получает возможность двигаться и действительно совершает движение на нас и от нас; словом, не в направлении двух измерений, а в направлении глубины или нам навстречу. Вот это движение в глубину и нам навстречу, свойственное в отдельности разным цветам, и дает им различные свойства в нашем восприятии. То, что мы привыкли называть тепловым различием цвета, теплыми и холодными цветовыми состояниями, будет точно так же в зависимости от движения цвета на нас и от нас. Если мы, смотря на какое-либо затененное углубление, будем энергично проникать в глубину, чтобы увидеть цвет какой-либо поверхности, то мы получим в результате впечатление более или менее теплого цвета. Наоборот, если мы не будем стремиться в глубину, а будем •смотреть рассеянным взглядом, то тот же цвет будет для нас холодным. В примере с затененным углублением все это мы воспринимаем гораздо резче, но, собственно, то же самое мы получим и в свету, а тем более в ярко освещенном пространстве. Что же это обозначает? Когда мы смотрим, то мы как бы на конце луча нашего зрения имеем цветовую плоскость, которая меняется в зависимости от того, пассивны мы или активны, дожимаем ли мы эту цветовую плоскость до поверхности предмета или, наоборот, позволяем цвету самому действовать на нас, идти на нас и касаться нашего глаза почти осязательно. В первом случае цвет, уступая нам, прижимается к поверхности предмета, как бы уплощается, приобретает все большую и большую фронтальность, как бы в силу нашего зрительного нажима ощутительно обозначает поверхность предмета и, может быть, даже допускает нас в глубину своего слоя; во втором случае мы зрительно пассивны и цветовая плоскость двигается на нас и в этом движении становится все холоднее и холоднее, а кроме того, как бы перерождается — разрыхляется, теряет структуру плоскости, пучится, как бы ложится на глаза как туман и в конечном счете может даже перейти в ощущение массы, среды, словом — воспринимается хотя и глазами, но как нечто осязательное. Вот каково движение цвета. Мы, графики, оперирующие только черным и белым цветом, хорошо должны знать, что стоит черному цвету каким-либо способом придать движение на нас, как он становится сырым, рыхлым и холодным, и, наоборот, если ему придать движение от нас в глубину, то тот же черный цвет получает плоскостность, фронтальность и теплоту. Итак, теплота и холод не есть только относительные понятия, не воспринимаются только один относительно другого, а есть более или менее постоянные свойства цвета. Если мы развернем спектр и воспримем его как ряд более или менее статичных цветов, то им, каждому в отдельности, будет принадлежать движение от нас и на нас и тем самым будет принадлежать и теплота и холодность и все те свойства, которые сопутствуют той и другой. Можно сказать, что из них средний, зеленый, будет утверждать поверхность и не будет иметь движения ни на нас, ни от нас; если мы перейдем к желтым и красным, то тут мы сможем заметить не только утверждение поверхности, но и глубину, которую мы особенно воспримем в середине цветового пятна. Возможно, что если мы наряду со спектральными цветами будем рассматривать черный цвет, то он даст нам впечатление беспредельной глубины без передней зрительной поверхности; следовательно, будет примером цвета, самым сильным образом двигающегося от нас. Но, так как он часто материально будет даваться нам как кроющая краска, то тогда [он] будет рассматриваться как пример наивозможно темного серого, и будет холодным, и будет двигаться на нас. Но если мы от зеленого цвета перейдем в сторону синих, то здесь мы уже обнаруживаем другие тенденции: плоскость не утверждается, цвет рыхлится на нас, не имеет глубины и тем самым становится холодным; и в этом смысле, может быть, как наиболее идущий на нас, наиболее холодный мы должны признать белый цвет. Если, возвращаясь к синему, собственно, к голубому как наиболее холодному в спектре, мы станем вводить туда красный, то есть перейдем к ультрамарину, и начнем замыкать спектральный круг, то тут мы опять можем говорить о некоторой глубине и тем самым о некоторой теплоте. Если в связи с этим рассуждением постараться дать себе отчет: что такое нейтральные цвета,— то можно их себе представить как цвета того или другого полюса, стремящиеся приобрести качества другого полюса, что может быть достигнуто введением в них либо спектрального цвета, либо серого, черного и белого. Таким образом, при помощи смешения, утемнения или разбелки цвет одного полюса приближается по качеству к противоположному. Нейтральные цвета, следовательно, будут тоже либо утверждать поверхность, либо давать пятну глубину, либо двигаться на нас. Последнее качество в нейтральных цветах мы обычно именуем тяжестью, а противоположное — мы должны были бы именовать пространственностью. Первое будет приближать их к области осязательной, второе — к зрительной. Оставив пока рассуждения о цвете, напомним отчасти, а отчасти попробуем себе более уяснить то, как мы воспринимаем вообще все, идущее на нас, и, наоборот, все, позволяющее нам входить внутрь. Ведь вы, наверное, помните различие, которое я пытался выяснить из восприятия рельефа и контррельефа. В рельефе самым характерным является то, что мы имеем глубину; форма не идет беспредельно на нас, а имеет переднюю поверхность, за которую не выходит и тем самым позволяет нам двигаться, начиная с этой поверхности, внутрь, причем это движение не лишает нас обладания двухмерностью, наоборот, все время подтверждает наше обладание ею. Весь этот процесс восприятия — будь он в развитой форме или только в намеке — дает всему переживанию свой определенный тон. Прежде всего, активность с нашей стороны. Затем как необходимое — доверчивость при входе нас внутрь, в глубину, осознание, хотя бы по одному месту, общей всему целому внутренней построенности и тем самым освобождение от чувства неоформленной материальности. Тут надо оговорить, что беспредельное движение в глубину лишает нас всего этого, мы тогда сразу теряем и активность, и чувство оформленности трехмерной массы, и чувство глубины. Правда, может быть, мы не лишаемся чувства материальной отвлеченности, так как становимся одномерными, но во всяком случае весь тон восприятия меняется. Совершенно другой тон имеет восприятие чего-либо двигающегося на нас. Может быть, тут играет роль и то, что нашему глазу естественно переходить постепенно от ближнего к дальнему, а не наоборот, но только весь строй восприятия сразу совершенно меняется. Как только что-либо — предмет, масса или цвет — начинает двигаться на нас, то прежде всего мы ощущаем крепкую осязательную поверхность, через которую мы проникнуть не в состоянии, но у нас не теряется чувство, что за ней что-то есть, чего мы не можем воспринимать. И хотя мы имеем оформленную двухмерность, но в то же время не можем отделаться от ощущения, что на нас за ней надвигается нечто неведомое, неизвестное, может быть, и непостигаемое, в чем отсутствует понятие формы и что как бы напирает сзади на ту двухмерность, которая нам дана. При дальнейшей тенденции движения на нас мы как бы все больше и больше боимся, что глаза наши не уследят за тем, что на нас надвигается, и как бы взываем уже к чувству осязания, которое постепенно, как оформляющее начало и тем самым уясняющее неведомое надвигающееся, входит на смену зрению и переносит это, уже ставшее зрительно непостигаемым, в другое — осязательное, пространство, в котором эта форма становится, может быть, сразу и знакомой и безопасной, но, как вы, конечно, уже знаете, поверхностной, двухмерной, а за оформленной поверхностью всегда будет присутствие неведомого, неоформленного. Но если, встречая надвигающееся на нас, глаз не передаст оформляющую инициативу чувству осязания, а сам себя сочтет за осязательный орган, то двигающаяся на нас поверхность начнет постепенно терять свою оформленность, перерождаться, рыхлиться, раскрываться, обнаруживать то, что за ней; и тогда, когда она раскроет свое нутро, как бы вывернувшись, мы там не найдем пространства, которое могли бы ожидать, а массу, в лучшем случае среду, не имеющую для нас определенного строя, в лучшем случае — разве зернистость. Но, таким образом, то неведомое, которое на нас надвигалось, заслоненное поверхностью, при разрушении, раскрытии этой поверхности превратилось в массу, в среду и тем самым не стало нам ведомым. (Ощущение таково, что всё ее лицо, весь строй скрылся от нас внутрь каждого зерна, которое мы воспринимаем только с внешней стороны.) Итак, движение на нас какой-либо формы, воспринимаемой зрительно, проходит через стадию оформленной двухмерности и развертывается в ощущение неоформленной среды или массы. Словом, так или иначе, в большей или меньшей степени мы все время имеем дело со зрительно неведомым. В силу всего сейчас сказанного является, может быть, некоторым благодеянием для глаза или во всяком случае облегчением, когда форма, двигающаяся на нас, начинает одномерно оформляться, но обратно перспективной одномерности — тоже по лучу зрения, но не от нас, а на нас, что мы наблюдаем в контррельефных построениях при помощи светотени, хотя бы в помпейской живописи. Глаз тогда, пользуясь зрительным лучом как некоторым стержнем, можем уже, правда, не зрительно, а двигательно, оформить воспринимаемую массу. Итак, как я пытался здесь выяснить, то обстоятельство — будет ли плоскость или какая-либо форма давать нам возможность двигаться в глубину или, наоборот, будет [ли она] иметь тенденцию двигаться на нас — придаст всему зрительному восприятию совершенно различный тон. Различие теплоты и холода в цвете будет как раз связано с этими принципиально разными восприятиями поверхности. Обратимся теперь опять к цвету. Если мы возьмем материальный цвет, то есть краску, то мы знаем, что в [зависимости от способа] наложения ее самое впечатление цветовое может очень и очень измениться. Способ наложения, который меняет таким образом характер цвета, называется фактурой. Оттенки фактур могут быть очень различными, но можно с определенностью наметить какой-то фактурный центр и движение от этого центра в двух противоположных направлениях, к двум совершенно различным целям. Центром можно взять такое обращение с цветом, которое, лишив поверхность каких-либо осязательных свойств, тем самым дает цвет наиболее зрительно, наиболее отвлеченно от всех других чувств. Примером такого цвета может быть акварель. От этого центра мы можем двигаться в сторону осязательной обработки, и тем самым, давая поверхности осязательную реальность, мы глубинный цвет сделаем поверхностным (пример черного), а поверхностному, холодному, двигающемуся на нас придадим еще большую осязательность. Таким образом, идя в эту сторону, оказывается, что, утяжеляя осязательно поверхность фактурой, мы тем самым холодность цвета усиливаем и переводим качество зрительное в качество осязательное. Но мы можем двигаться и в другую сторону. Когда эпохе, оперировавшей теплыми цветами, в тепловом полюсе спектра нужно было взять теплее теплого, тогда пользовались в живописи лессировкой, то есть клали один слой, а на него другой, просвечивающий, и таким образом получали то, что хотели. Что же тут происходило? Оказывается, желая взять наиболее теплый цвет, усиливали качество теплого цвета, то есть глубину, воспроизводили ее механически. В нашем современном смысле такое манипулирование, может быть, и не должно называться фактурой, так как современность уходит как раз от зрительности и обращается к осязательности, поэтому и занята не усилением механическими способами пространственности или зрительности цвета, а, наоборот, усилением, изменением поверхности, холода поверхности и осязательности. То, что сказано выше, может идти за выяснение понятия фактуры. Но нам, собственно, не это важно в настоящий момент. Мы видим, таким образом, что на теплом и холодном полюсах цветового спектра мы, помогая себе механически и, собственно, меняя пространственную и временную форму поверхности, усиливаем как тепловые, так и холодные свойства цвета. Таким образом, мы как бы видим подоплеку цветового качества, которое, в сущности, обнаруживается для нас тоже как своеобразно выраженная пространственная и временная форма поверхности, как такая форма, которая принципиально не отличается от осязательных поверхностей, которые ведь тоже и с особенной ясностью есть пространственные и временные формы. Если бы углубить это сходство, эту общую принципиальную подоплеку, может быть, можно было бы надеяться найти общий язык со слепыми и объяснить им, что такое цвет. Но, оставив эти мечты, исполнение которых нам не под силу, мы во всяком случае должны выяснить, что мы приобрели в течение этого рассуждения. Из вышесказанного для нас установилось, что цвет можно рассматривать как некоторую пространственную и временную форму поверхности, чем она принципиально не отделяется от формы какой-либо осязательной поверхности. Таким образом, мы как бы сделали обобщение, некоторую принципиальную нивелировку. Но закруглив все рассуждение, мы должны вернуться к вопросу: что же, собственно, делает цвет цветом. Предположив, что цвет есть только пространственная и временная форма поверхности и, следовательно, время и движение в нашем восприятии цвета участвуют, и, собственно, восприятие цвета и есть организация этого движения в форму, мы тем не менее цвет воспринимаем как абсолютное качество, в котором отсутствует всякая относительность. Таким образом, цвет будет наибольшим композиционным достижением зрения, то есть когда мы движение, дающее какую-то форму материи, воспринимаем как материальное качество, совершенно непосредственно нам данное. Из всего предыдущего следуют два очень интересных вывода, которыми мы займемся в дальнейшем. Во-первых, что мы при помощи организации движения можем дать символ цвета, как это мы делаем в графике. С другой стороны — все цвета вместе и каждый в отдельности, как-то: красный, желтый, зеленый, синий, черный и белый — в своем чистом зрительном виде и поэтому как бы лишенные грубой материальности являются сами по себе глубоко символичными во всех отношениях, так что мы чему-нибудь невидимому, незрительному, как, например, тьма или солнце или что-либо другое, тем не менее можем дать свой цвет и им выразить ту пространственную и временную форму чрезвычайно лаконично, композиционно и отвлеченно от всякой материальности. [1921]—1922 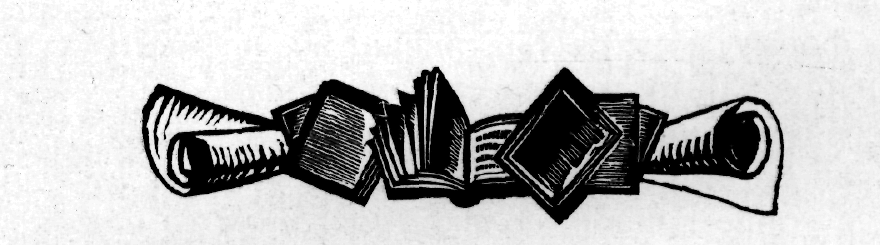 Методическая записка к курсу «Теория композиции» Курс теории композиции возник на почве практических занятий. Преподнося студентам формальные дисциплины, необходимо было разобраться в терминологии и в объеме и содержании понятий, связанных с формальными дисциплинами. Отсюда и специфическое название курса. Термин «композиция», малоупотребительный теоретиками-искусствоведами, наоборот, чрезвычайно употребителен практиками искусства, и так как курс этот ведет происхождение от практических дисциплин, то этим объясняется его наименование. Курс этот ранее читался на графическом факультете и поэтому касался главным образом принципов плоскостного изображения. Этот год впервые он читается и для живописцев и для скульпторов и поэтому должен был быть пополнен в сторону объемных дисциплин и большего внимания к вопросам цвета. Переходя к содержанию и методу курса, я прежде всего должен оговорить, что термины, мною для выяснения употребляемые, могут быть, если это будет необходимо, заменены другими, важнее выяснить, что под этими терминами понимается. Объектом рассмотрения и изучения в курсе теории композиции является форма, но, употребляя этот термин, мы не предполагаем обычно противополагающегося ему термина «содержание». Нам представляется, что такое разъятие целого художественного [произведения] на две распадающиеся части методически неправильно и ведет к тому, что художественное произведение как таковое убегает от исследования. В таком случае форма рассматривается как средство, причем это средство как бы получает свое специфическое содержание — «идеология средств», и отдельно рассматривается содержание, которое без скачка не может стать формой. Нам представляется, что в художественном произведении все может рассматриваться как форма и, в свою очередь, все может рассматриваться как не форма, то есть не по цельности восприятия, а как материал, методом какой-либо науки. Под формой мы хотели бы понимать художественное произведение в целом (включая сюда и сюжет, и тему), рассматриваемое с точки зрения целостности восприятия. Поэтому, если и противополагать форму чему-либо, то не содержанию, так как форма должна иметь присущий ей смысл, а материалу, который противопоставляется ей как форме и который данная форма включает, которым она обусловливается и который она оформляет. Правда, понимание материала как совершенной бесформенности тоже невозможно. Анализируя форму, курс рассматривает все элементы художественного произведения, как-то: технический материал, форму поверхности, технические средства, условия восприятия, тему, сюжет,— и старается выяснить, как эти моменты друг на друга влияют, друг друга обусловливают и, в конце концов, волею художника (в широком смысле слова), стремящегося к цельному восприятию и к цельной организации материала, оформляются как цельная художественная форма. Подвергая все эти элементы анализу, курс этот имеет задачей выяснить, каким образом, например, доска, или холст, или стена, с присущей им геометрической формой и материалом, превращаются в различные изобразительные поверхности, обусловливающие свой, присущий им изобразительный метод. Главной темой курса, таким образом, будет выяснение характера цельности художественной формы. Центральными понятиями этой темы являются понятия композиции, композиционной цельности, и конструкции, конструктивной цельности. Каждый термин, каждое понятие при его выяснении обнаруживает тенденцию к движению, как бы понимается во времени (не историческом); понимаемое динамически, оно переходит в другое понятие, ему противоположное, но вместе с тем с ним связанное. Дальнейшее движение понятия в ту и другую сторону приводит нас к абсурдным пределам и, таким образом, дает границы данной паре понятий. Таковы, например, связь и противоположение понятий конструкция и композиция, двигательное и зрительное представление, предмет и пространство, вчувствование и абстракция и другие. Всякая художественная форма, будучи в одно и то же время и противоречивой и цельной, включает их и связывает, но они все время противоборствуют одно другому. Усиление композиционного момента ущербляет конструктивный, и наоборот. Но, с другой стороны, попытка отказа от одного полюса и всецелое устремление к другому бросает нас к абсурдному пределу и вместо композиционной формы дает пассивное зрительное ощущение, а вместо конструктивной — движение как материал. Таким образом, каждое понятие и каждая форма рассматривается курсом как бы в движении, во времени (не историческом), ограниченном, правда, пределами художественной формы, так как вывод понятия за данные пределы приводит нас к отрицанию нашей темы. Кроме того, каждое художественное целое можно, в свою очередь, рассматривать как метод, и мы можем говорить о различных методах изображения и о их цельности. Причем такое рассмотрение искусства понимает его, с одной стороны, как особый художественный метод познания, а с другой — как метод организации материала. Эти оба понимания имеют то же отношение, как и конструкция и композиция, — переходят друг в друга и связаны, одно — с композиционным полюсом, другое — с конструктивным. Таким образом, курс теории композиции рассматривает все моменты художественного произведения как форму и все произведение в целом как цельную форму, выясняя, как одно другое обусловливает и одно с другим связано. Учет какого-либо момента как условия изобразительного метода, как влияющего на характер цельности художественной формы и на цельность восприятия — вот задача курса. Но в силу того, что ничто не может быть выделено как средство, невозможны и рецептурные выводы, дающие механический подход к художественной форме; и воспитательной целью курса можно считать выработку в студенте определенного, сознательного и на опыте основанного взгляда, что всякая форма меняется в зависимости от материальных и других условий восприятия и изображения: темы, сюжета, заказа потребителя; и, следовательно, на практике всякое художественное изображение каждый раз есть нечто новое, так как совершенно одинаковых условий возникновения художественной формы не бывает. Но последнее, предполагая бесконечное число методов изображения, в силу предельности самого искусства, не может отрицать типы изобразительных методов. И курс должен преподнести слушателям описание и анализ типов изобразительных поверхностей, типичные изобразительные методы. Кроме вышесказанного, считаю необходимым указать на следующее: метод рассмотрения художественного произведения как цельной формы занят раскрытием понятий; с другой стороны, [он] может быть понят как экспериментальный метод, так как оценка каждого явления, входящего в художественное произведение как форму, может рассматриваться как художественный эксперимент, экспериментирующий различными материалами, условиями восприятия, темами или сюжетами в их влиянии на создание художественной формы. Поэтому-то возможно при работе с натуры преподавание принципов композиции, [основанное] на учете различных условий восприятия. Изменение условий даст нам различные методы, разные по характеру цельности и разные по результатам. Эксперимент будет ставиться субъективно, но так как восприятие внешнего мира для всех более или менее общее, то он будет иметь и объективный результат. Это что касается метода исследования, а теперь о методе преподавания. В курсе теоретические рассуждения перемежаются с показом репродукций живописных, графических и скульптурных произведений. Теоретические положения иллюстрируются произведениями различных эпох. Причем историческая последовательность иногда оказывается параллельной развитию какого-либо понятия, а иногда к одной теме приходится привлекать памятники различных эпох. Развитие темы курса от методов осязательных — в древние эпохи, к методам зрительным соответствует исторической последовательности. [...] С вопросом о литературе дело обстоит так. Фундаментальных книг, рассматривающих вопросы композиции, нет, и приходится обращаться либо к мелким брошюрам, либо вообще к литературе по формальным вопросам. Считаю возможным рекомендовать следующие книги: 1) [В.] Гаузенштейн. «Искусство и общество» и другие. Мне представляется, что достоинством данного писателя является попытка подойти к психологическим и общественным моментам с точки зрения типа их цельности, с точки зрения формы. 2) А. Гильдебранд. «Проблема формы в изобразительном искусстве». Автор пытается анализом формы выяснить то, как она организует восприятие, и, следовательно, трактует о цельности формы. Его можно упрекнуть в некотором отвлеченном рационализме; так, моменты массы, материала, словом, все чувственные моменты им очень мало учитываются, и, имея личное тяготение к искусству Ренессанса, он только на его опыте строит свою теорию и поэтому упускает целый ряд изобразительных методов, целый ряд типов рельефов. 3) [Н.] Wolfflin. Grundbegriffe der Kunstwissenschaft*. 4) Карл Фолль. «Опыты сравнительного изучения картин». Очень осторожная, но ценная книга и по методу и по выводам. 5) [W.] Worringer. Abstraction und Einfuhlung. Книга, освещающая вопрос о контрастном развитии восприятия, а вместе с тем и формы. Затем целый ряд русских книг и статей, трактующих о формальных вопросах. [1924—1925] * Точное название: Die kunstwissenschaftliche Grundbegriffe (Прим. ред.). 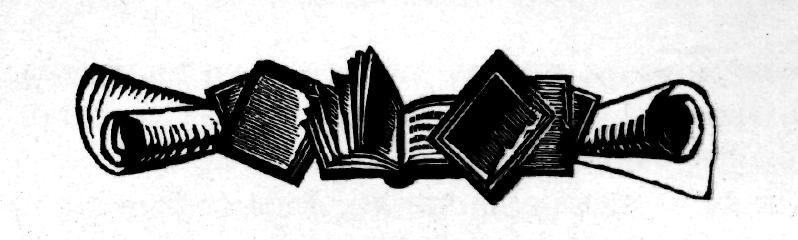 Методическая записка к курсу «Теория композиции» №2 Считая, что записку к теории композиции, читанной на живописном факультете, необходимо сохранить как общее введение в метод, добавляю, кроме того, специальную. Общее введение, как мне кажется, выясняет вопрос о методе исследования, а специальная записка должна дополнить общую частными добавлениями и, кроме того, выяснить метод преподавания и объем курса с его специальным уклоном. |
