Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
 ДЕСЯТАЯ  О перспективе и о возможности композиции при перспективном изображении О перспективе вы слышали очень много, и поэтому хотелось бы про нее сказать как можно определеннее и подробнее, о том, в силу чего она, собственно, возникла и что нового вошло вместе с нею в искусство. Вы уже знаете из лекций Флоренского, какую позицию занимает перспективное изображение пространства по отношению к времени; перспектива, как вы знаете, выключает время, игнорирует его и в этом полагает свое достоинство, свою объективность; но это и является ее слабой стороной, по словам Флоренского, таким образом она лишается возможности изобразить реальность. Но мы в данной лекции подойдем к вопросу о перспективе с другой стороны. Мы спросим себя: чем является перспективная проекция, композицией или конструкцией, и насколько она цельна, есть ли она действительно художественное изображение пространства или же нет, на какой изобразительной поверхности она возникает, какова природа этой поверхности, и может быть, прежде всего, каковы мотивы такого изображения. Как мы видели, между композиционным изображением и конструктивным есть глубокое различие. В конструкции мы творчески переживаем то соотношение сил, которое создает данный предмет, данную форму, так что элементом изображения становятся силы движений и тяжести, и дальнейшее изображение строится из их отношений. Таким образом, непосредственно нам данным являются эти силы, а сама конструкция, правда, воспринимается нами через чувство, но в общем строится на какой-то конструктивной логике, которая при нашем восприятии обнаруживается и своим обнаружением не мешает восприятию, наоборот: эта логичность конструкции и является ее художественной цельностью. Композиционное изображение основывается на другом, там мы, собственно, строя какое-то движение, добиваемся того, что все целое уже не воспринимается нами как хотя бы и логически проведенное движение, а весь результат мы встречаем уже не как созданный из элементов, а как сам по себе непосредственно нам данный элемент, с которым мы можем производить, если хотим, дальнейшие эволюции. Например, если мы возьмем объем, то для его восприятия и для его изображения нам потребуется уже некоторая композиционность. Только одномерным движением, как элементом нами все время сознающимся, мы ничего не добьемся, нам нужно заручиться движением поверхности, а это мы можем сделать только тогда, когда поверхность сознается нами уже как элемент, то есть что-то нерасчленяемое, и тогда наше движение, хотя бы и линейное, будет происходить на поверхности, вместе с ней, то есть в двухмерном пространстве, которое мы осознаем композиционно, то есть не расчленяя, хотя бы и логически, на что-то более элементарное. Точно так и в дальнейшем, если мы хотим воспринять и изобразить третье измерение или глубину, мы еще цельнее должны осознать плоскость, ее исключительное фронтальное положение относительно нас, и только тогда, когда она будет нерушимым элементом, только тогда мы сможем ее двинуть вглубь; но даже и тут, когда дело идет о движении плоскости в глубину, мы работаем на то, чтобы это движение не осознавалось как таковое, а было насколько возможно единовременным, а следовательно, и вся глубина переживается нами не как логично построенное движение, а как масса пространства, данная нам как цельность, то есть непосредственно. Таким образом, и в подходе к объему, форме двухмерного пространства, а особенно к трехмерному изображению пространства мы постепенно все более и более сложные формы осознаем как элементы, доступные нам непосредственно. Если мы теперь обратимся к византийскому изображению, строящемуся на обратной перспективе, то там, анализируя, мы, правда, можем говорить о пространственном движении, но эти движения опять-таки даны нам как различные качества данного пространства и опять-таки логике восприятия не подлежат, а воспринимаются как нечто непосредственно данное. Итак, есть большое различие между конструкцией и композицией. По-видимому, в конструкции нам непосредственно дано только одно измерение, иначе — движение, а в композиции — и два, и три, и четыре; и все это не как соединение, имеющее ясное отношение между своими частями, а как что-то неделимое. Поэтому конструкция и будет организацией движения в двигательную цельность, а композиция — приведением движения к цельному зрительному или какому-либо другому образу. Кроме того, рассуждая о конструкции, приходится встретиться с такими понятиями, как функция и вчувствование. По-видимому, конструкция всегда функциональна — будет ли это грубо утилитарно, или будет это просто движение по горизонтали, или какое-либо сложное, или, наконец, хотя бы движение вверх; только тогда, когда мы можем воспринять ее функциональность, мы можем говорить о конструкции. Все, что не будет воспринято по функции, то и не будет конструкцией. Поэтому, если мы встречаемся хотя бы с кубом, который движения не выражает, а заботится только о сохранении формы, его мы уже не воспринимаем как конструкцию, а как объем или как пространство. Но есть, конечно, формы, которые, действуя как объемы и как пространство, в то же время имеют и конструктивную сторону; например: колонна может быть воспринята и пространственно и по функции, что она что-то подпирает, и в последнем случае мы будем иметь дело с конструкцией. Несомненно, что ее массив, крепость материала не будут нам в этом мешать, но мы не будем воспринимать их пространственность, а будем воспринимать колонну как некоторую сумму сил, направленную на одну функцию — держать балку, так что в таком ее качестве воспримем ее двигательно-конструктивно. По-видимому, мы имеем конструкции, различные по функции: иногда, как в колонне, силы ее будут только выдерживать тяжесть, а не поднимать, и тогда это будет замкнутая конструкция. Иногда же конструкция будет стремиться к беспредельному движению, будет вызывать беспредельное движение, таковой будет стрельчатая башня или что-либо подобное. Если идти дальше, то можно указать на всякий инструмент, как, например, иглу, и еще дальше — на автомобиль или аэроплан, которые предполагают беспредельное движение. По-видимому, большинство конструкций без этого предположения немыслимы, и, следовательно, для их восприятия, во-первых, необходимо безграничное движение (если это не встреча движений), которое иначе может быть определено как одномерное пространство; во-вторых, необходима определенная организация конструкции, подобная организму. В первом случае мы имеем нечто, что соединяет все конструкции, налагает на них некоторую типичность; во втором случае подчеркивается, что конструкция является предметом, организмом, чем-то, что имеет силовой центр, и [существует], так сказать, отдельно от другого. Но кроме того, по-видимому, в связи с функциональностью конструкции и двигательностью или пространственной одномерностью стоит возможность восприятия через вчувствование. Все, что вчувствованию не подлежит, уже не будет конструкцией. Но также через вчувствование мы воспринимаем и одномерное пространство, то есть орнамент. Несомненно, в таком восприятии имеет значение наш организм, он дает ему все качества и формирует самый метод восприятия. Организм есть соединение не однородных, а различных по функциям частей в одно, где каждая часть, будучи в каком-то смысле отдельной, подчиняется целому, и такое соединение должно заключать в себе внутреннюю логику, которая во внешнем виде сказывается в пропорции. Поэтому такие понятия, как пропорция или грация, будут именно принадлежать предметам как конструкциям. Но значит, такое двигательное восприятие конструкции через вчувствование обусловливает, по-видимому, то, что мы не можем отделаться от участия в нем всего нашего организма, что, может быть, обусловливается и тем, что двигательное наше чувство мы не можем отделить от нашей физической личности в какой-то определенный орган, а органом в данном случае является весь человек со всей его физической структурой. По-видимому, то, что и осязание, которым мы воспринимаем объем, и зрение, которым мы воспринимаем пространство, могут быть выделены, последнее особенно, в какие-то отдельные органы, приводит к тому, что человек зрительный может и забыть, что он обладает руками, ногами и тому подобным, или во всяком случае, если он и помнит о возможности движения, то помнит об этом отвлеченно, вне своего физического строения. И поэтому, если восприятие объема основывается на осязании, а органом осязания является наша кожа, то хотя и присутствует еще момент вчувствования, но мы вчувствуем себя не как конструкцию, не как организм, не как физическую личность, но как объем, лишенный индивидуальности и ставший типичной формой двухмерного пространства. В собственно зрительном восприятии момент вчувствования отсутствует, мы забываем себя как организм, а, основываясь на законах зрительных, данных нашему восприятию, достигаем в них композиционности, то есть цельного образа того, что нам физически дано как сложная сеть движений, и сознаем пространственную типичность законов нашего зрения, то есть имеем дело с чем-то по отношению к нашей физической личности абстрактным. Из всего вышесказанного, по-видимому, выясняется то, что трехмерное пространство не может быть воспринято через вчувствование, ему не присуща никакая функция, кроме разве функции цельного образа, поэтому между пространственной формой и нами не существует никаких личных отношений, кроме счастья сознавать закон пространства и самих себя присущими этому закону. Следовательно, изображение пространства будет композиционно, а не конструктивно. Но ведь композиционное изображение является некоторым чудом, а именно: когда мы что-либо нам два раза данное воспринимаем как одно, неделимое на части, и когда мы движение воспринимаем как единовременность и так далее. Таким образом, нам при восприятии не открыта логика этого изображения, изображение является [как бы] иррациональным. Но кроме того, ведь и предметы изображенные, как мы видели, приобретая в пространственной типичности, страдают в своей конструктивной личности, становятся абстрактными пространственными формами, теряют в функциональности, и подход к ним по методу вчувствования может быть либо сильно ограничен, либо совершенно запрещен. Все это в общем, может быть, объяснит то, что, несмотря на видимую невозможность, тем не менее возникла попытка конструктивного изображения пространства по функции дали, что привносит в изображение нечто подлежащее учету рассудка, делает возможной беспредельную глубину, освобождает предметы от пространственной типичности, заставляя их только участвовать в сокращении, но оставляя им все их функции и не подчиняя последние никаким законам и ограничениям. К такому изображению, как кажется, мы можем подойти не как зрительные, абстрактно настроенные души, а как физические личности, обладающие органической индивидуальностью, мы можем уже вчувствовать себя в пространство, а также и во все предметы, которые там изображены. Я говорю о перспективе. Несомненно, иррациональность композиционного изображения и возникший страх за угнетенность отдельных конструкций подвигли на то, что был открыт такой способ изображения пространства. По-видимому, была мысль построить его как конструкцию. Но посмотрим, чего же добились таким путем. Оставляя пока без внимания иллюзорность перспективного изображения, рассмотрим, какой результат получается при вчувствовании в подобное изображение. Перспектива пытается дать нам третье измерение как чистое движение, которое мы сознаем как таковое. Но возможно ли это без какого-то нарушения двухмерности? Ведь в рельефе, хотя бы в греческом, мы хотя и говорили о движении передней плоскости, но ведь это говорилось нами в плане анализа, а собственно, сознавали мы и переднюю и заднюю как одну и всю глубину как нераздельно единую. В перспективном же изображении мы должны пережить глубину движением, вчувствовать себя в движение и для этого мысленно летим туда, превращаясь в точку. Как же тогда будет обстоять дело с двухмерностью, данной нам в изображении? Что ж, мы ее разве можем оставить про запас, так сказать, консервировать ее, сами превратившись в нечто такое, что не может уже воспринять двухмерность как нечто целое? Конечно, нет; а как только мы остаемся двухмерными, чтобы воспринять эту двухмерность, мы уже не можем участвовать в переживании третьего измерения. Итак, в результате всего сказанного, получается, что перспектива, думая дать нечто конструктивное, дает двигательно только одно третье измерение, то есть является не трехмерностью, а одномерностью. Но кроме того, эта одномерность может ли равняться одномерности первого измерения, то есть горизонтали? Последняя — ясна, проста, беспрерывна, ритмична и соизмерима, а движение по третьему измерению есть как бы трамплин, от которого отталкивается прыгающий в бесконечность и не знающий, что с ним там будет. И поэтому-то перспективы далей всегда ведут к тому, что человек уносится в фантазию, совершенно оторвавшись от изображения, не руководимый им, захватив только с собой некоторые внешние признаки темы. Недаром такие изображения очень ценятся людьми литературными, людьми мысли, живущими, собственно, в одномерном пространстве или во времени. Итак, по-видимому, перспектива, рассмотренная как конструкция, не выдерживает оценки с точки зрения организации двигательной цельности. Кроме того, и относительно предметов она вовсе не так уж безвредно ведет себя. В сущности, она их искажает, что противоречит вере в устойчивость их формы и предметному подходу к ним. Но кроме того, лишив их пространственной типичности, освободив от гнета трехмерности и предоставив нам вчувствовать себя в эти конструкции, она лишила их даже двухмерного пространства, которое бы организовало и сделало бы художественно реальными их движения, как это мы видим у египтян; она лишила их всякого пространства и предоставила нам за это право влезать в картину и налаживать там при помощи вчувствования тропинки без всякой системы, по одной нашей прихоти движения. Словом, мы совершенно свободны как находящиеся в пустоте, так что мы сейчас же выскакиваем оттуда в фантазию, искать какую-либо другую страну с немного более ощутимыми законами. Такова перспектива как конструкция, и поэтому, может быть, уход в иллюзию, иллюзорность перспективы, в некотором смысле, даже спасает положение. По крайней мере мы возвращаемся как бы до некоторой степени к тому куску природы, от которого мы исходили. Интересен тот факт, что перспектива, заручившись математикой, кроме того, основывается на моменте пассивного зрения и поэтому возможна иллюзорность. Горе только то, что это не подлинная природа, а только пассивный зрительный образ, в котором зрение участвовало только как физическое, выкинув активные двигательные представления и будучи совершенно пассивным. Следовательно, зрительный акт тут никак не сорганизовал движение, поэтому с первого взгляда может показаться, что здесь мы имеем кульминационную точку композиционности. На самом же деле мы этот акт не можем даже назвать зрительным, это просто проецирование каких-то пятен и линий, так что этому акту недоступно никакое пространство, кроме разве цветовой двухмерности, так что мы тут сталкиваемся с элементом, который еще не есть форма. Следовательно, перспектива не цельна и произвольна по восприятию как конструкция, пассивна и не сознательна как зрение и поэтому не может рассматриваться как композиция. 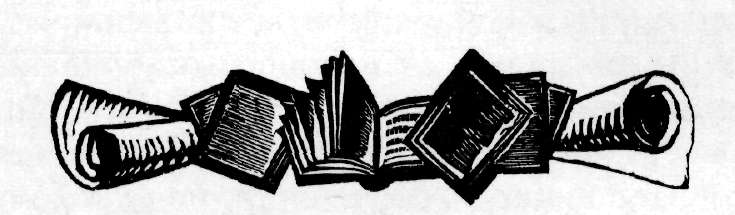 ОДИННАДЦАТАЯ  О ненормалъностях, которые являются вследствие появлении условного и иллюзорного изображения в связи с перспективой О возможности воспроизведения предмета без подчинения его какому-либо пространству О функциональном, нарушающем образ О различных функциональных пространствах Как мы уже говорили, с введением в изображение перспективы являются в искусстве новости и следствием этих новостей, так сказать, знаком нового отношения будет нарушение изобразительной плоскости. (Тут надо заметить, что греческий рельеф или что-либо подобное нельзя рассматривать как нарушающий плоскость, так как в данном случае принцип плоскости сохранен, только содержание ее расширено плоскостным пониманием глубины.) В древнем искусстве, а также в искусстве детей мы не наблюдаем нарушения плоскости или поверхности, так как последняя является одним из главных факторов изображения, создающим художественный образ и еще до этого момента в нас по какому-либо чувству реальным. В силу этого, будь перед нами плавная поверхность колоды, лист бумаги или доска мрамора для рельефа, или даже кусок скалы, реальный своей массой,— мы еще до изображения предмета начинаем строить образ пространства, и поэтому как самый предмет, так и его функции либо приобретают пространственную типичность, либо совсем не получают образа как немыслимые в данном пространстве. Последнее служило часто к тому, чтобы относиться со снисхождением ко многим древним эпохам, обвиняя их в несовершенстве изображения, тогда как на самом деле это указывает только на цельность миросозерцания, для которого многие вещи существовали только как шумы, тьма, нечто реально не воспринимаемое. Итак, тот факт, что древнее изображение сохраняло принцип плоскостности или поверхности, служит признаком действительного изображения, доведения до художественного образа, реального по какому-либо чувству. Если художник имел перед собой какую-либо поверхность или плоскость, то понимал ли он ее осязательно-двигательно, или осязательно, или зрительно-двигательно, или зрительно, то все восприятие предмета через какое-либо чувство или через комбинацию чувств строилось согласно той основе, тому строю, который давался первичной основой изображения, то есть плоскостью или поверхностью; все двигательные, осязательные или зрительные представления согласовались с их основными законами. Таким образом, и предмет и его функции могли быть изображены только согласно с пониманием всего мира, и только при условии понимания всего мира, а иначе не могли быть восприняты. То же самое нужно сказать и про скульптуру, так как всякой работе над статуей предшествовала встреча с подлинно существующей массой камня и работа над типичностью ее куска, формируемого еще до собственно изображения то как объем, то как пространство, то еще как-либо. Следовательно, этот изобразительный принцип касался как поверхности или плоскости, так и массы в скульптуре. В дальнейшем мы еще вернемся подробнее к этому вопросу, когда будет разбираться в различных функциональных пространствах, а теперь рассмотрим, каким образом возможно изображение предмета без такой прежде данной формальной основы, прежде данного пространственного понимания. Такое изображение предмета необходимо получится, когда мы весь процесс переведем в область чисто механическую, то есть когда не будет иметь значения ни наша духовная активность, ни даже цельность нашей физической личности, а воспринимающий аппарат выпадет из общей связи и ограничится только ощущениями. Тогда-то в области ощущений и возможна иллюзия, то есть обман наших чувств, отделенных от душевной нашей жизни. Но, по-видимому, относительно зрения и осязания будет существовать различие. Вопрос в том, может ли осязание выпасть из общей связи восприятия, превратиться в чисто механическое, не получить никакой пространственной основы, происходить без какой-либо нашей общей настроенности. По-видимому, нет, так как осязание всегда потребует от нас осознания некоторой поверхности, хотя бы в малой степени. Первичным элементом осязания будет не точка, а как бы осязательное пятно, имеющее много общего с цветовым пятном, убеждающее нас сразу в существовании поверхности и таким образом дающее нашему ощущению пространственность. Кроме того, эта пространственность, то есть связь отдельных моментов в одно целое, по существу проста и есть форма двухмерного пространства. Так вот поэтому отделение механического от сознательного в процессе осязания, по-видимому, невозможно, так как форма и содержание в осязании сливаются в одно целое. Другое дело в зрении. Там мы имеем тоже поверхность, на которую все отображается. Следовательно, в основе зрения будет тоже двухмерность, но эта двухмерность, только встречая поддержку в изобразительном процессе, в какой-либо материальной плоскости, доходит до нашего сознания как что-то действительно существующее. В зрении, таким образом, мы сразу встречаемся с расхождением формы и содержания. Форма слишком элементарна, и поэтому между тем, что видит физический глаз, и тем, что понимаем мы в доставленной им плоской картине, существует громадная пропасть, которая должна быть чем-то заполнена. Следовательно, физическое зрение дает недостаточную форму и понимание должно само создать форму восприятия. Такое создание формы может происходить по нескольким направлениям. Мы можем заимствовать ее у осязания и все, что мы видим плоской картиной, понимать в плане (этому в практическом зрении будет помогать движение). Но тогда мы, так сказать, хищнически отнесемся к акту зрения, ограбим его для создания незрительной формы. Но во всяком случае мы получим форму, и наше восприятие приобретет пространственный смысл на основе осязательной плановой поверхности. Тогда как зрительная двухмерность совершенно не войдет в построение формы. В другом случае мы, найдя в процессе изображения что-либо, подтверждающее зрительную плоскость, как-то: поверхность камня или цветовую двухмерность,— можем ее развить, усложнить в плоскостную трехмерность и так далее, и тогда у нас получится действительно зрительная форма. То есть наше понимание получит пространственность, включающую в себя зрительный акт, не пренебрегающую им, то есть пропасти между зрительным актом и пониманием не получится. Но может существовать и третий случай. Мы видели, что можно эксплуатировать зрительный акт для создания осязательной формы, то есть в зрительный акт, чисто физический, духовное войдет, облеченное в форму осязания, сама же зрительная картина будет ограблена — использована, опустошена и выброшена. Другое, когда мы, пользуясь элементарной формой зрения, берем ее за основу нашего понимания, мы доводим последнее до понимания углубления все той же зрительной формы. Но это возможно, по-видимому, только при поддержке материальной изобразительной плоскости. В таком случае зрительный акт ни в коем случае не может рассматриваться как механический, и духовность его, пространственная типичность, родится на основе самого зрительного акта. Но, как я уже сказал, может быть третий случай, когда зрительный акт не дойдет до нашего сознания как форма, следовательно, не родит сам по себе формы и в то же время не будет использован для создания формы другого характера. Тогда зрительная картина возьмется нами только как знак, как знак, говорящий нашему практическому рассудку и инстинкту. Тогда зрение не будет использовано для формы сознания, и в то же время и на какой-либо другой основе не построится ничего подобного, так как мы будем пользоваться зрением только как знаками, на которые будем отвечать чисто практически только по инстинкту или по рассудку. Словом, механическое зрение доставит нам знак, хотя бы и заразительный, который мы поймем только функционально, или по инстинкту, или по рассудку. Такая механическая зрительная картина, точно воспроизведенная, и может вызвать иллюзию, то есть известное наше раздражение на какую-либо функцию, чисто инстинктивно или рассудочно. При этом, в лучшем случае, мы получим представление вещи и некоторую местную пространственную ориентацию, но при таком функциональном понимании какого-либо качества, или вещи, или отношения между вещами у нас не возникнет никакой общей формы в смысле пространства, вещь не получит пространственной типизации и функции ее, на которые мы будем отвечать в картине, не будут иметь пространственной формы. Словом, таким образом возможно дать подобие вещи и в то же время не оформлять его в смысле пространственном. Можно воспроизвести вещь без всякого понятия о мире как о целостной форме, можно просто даже не знать вещь с ее какой-либо формальной стороны. Таким образом создается иллюзорность в искусстве или, иначе сказать, натурализм, и это же может характеризоваться термином «литературность», то есть когда нет собственно формы, а есть только знак, и содержание связывается с ним одной только точкой, именно функцией, и фантазируется зрителем в хаосе и смуте. Таким образом, мы видим, что при помощи точного воспроизведения пассивной зрительной картины возможно добиться иллюзии, то есть заразительных знаков, раздражающих нас на функциональное. Примеров этому можно подобрать множество в натуралистических произведениях 19 века. Итак, натурализм будет создавать не образ, а зрительное подобие вещи без пространственной основы, так сказать, некоторый заразительный знак, заразительный функционально. Но может быть и такое изображение, где знак этот не будет заразителен, а будет понятен рассудку только на каких-либо условиях, то есть возможно условное изображение. Но в условном изображении, так же как и в иллюзорном, функция, предмет, вещь тоже может не получить пространственной основы, и это в силу того, что плоскость, на которой мы будем изображать, превратится в умозрительную и тем разрушится ее зрительная реальность. Как в иллюзорном изображении она разрушается иллюзорностью, так в условном изображении она теряет реальность как умозрительная. Но поэтому-то, что и там, и тут плоскость нарушена, мы можем получить либо иллюзорное, либо условное подобие предмета, не обладающее пространственной типичностью, а сам предмет — как голый в этом смысле, как бы вещь саму по себе, без отношения к чему бы то ни было, вполне подвластную нашему корыстному отношению. Но самое зло получается в дальнейшем и не от условного изображения, а именно от иллюзорного, когда ему навязывают значение образа. Получается это в тех многочисленных картинах 19 века [...], которые подобны как бы мешкам или корзинкам, наполненным связками функций, перед которыми мы стоим, не имея для них никакого общего пространства, а когда мы пытаемся создать это пространство, то видим, что если мы одно доводим до реальности, то другое для нас перестает существовать, перестает восприниматься, и, при желании охватить их все, мы попадаем в полную сумятицу, в нас воцаряется анархия, полная разнузданность функций, которую многие и считают желанной целью художественного произведения. Из всего вышесказанного может возникнуть положение, которое при нормальных условиях, конечно, не могло бы возникнуть, а именно: противопоставление функционального формальному. Так как мы очень часто теперь встречаем картины с голыми функциями, то возникает противоположное стремление — отделаться, избавиться от каких-либо функций как не имеющих места в художественном произведении. Этого не могло бы возникнуть в эпоху реалистического искусства, стремящегося к образу. Пояснить разницу отношений в древности и теперь могло бы раскрытие содержания возгласа: «как живой», который одинаково произносился и в древности и произносится и теперь, но совершенно в разном смысле. Древние люди видели живость изображения в отношении частей к целому, в отношении предметов к пространству. Если земля изображалась горизонталью или уходящей вверх плоскостью, то в этом видели уже образ земли, удовлетворявший активное отношение древних людей; теперь же только фотографичность, то есть механичность воспроизведенной зрительной картины награждается таким восклицанием. Прежде, изображая солнце, нужно было поместить его в надлежащее место вселенной и выразить его отношение к ней — тогда это действовало как подлинное; теперь же требуется, чтобы оно ослепило нас, чтобы на него нельзя было бы смотреть, и тогда только, когда эта его частная функция заслонит от нас его форму, изображение награждается хвалебным возгласом: «как живой». Поэтому естественно, что формализм теперь или немного раньше современен. Но несмотря на то, что мы примерами имеем картины, в которых на нас бросаются голые функции, мы тем не менее не должны отрицать возможность дать действительный образ этим функциям. Но как мы увидим дальше, по-видимому, для различных функций должно существовать различное пространство, иногда друг другу подчиненное, а иногда совершенно не имеющее точек соприкосновения. И если мы, отправившись на поиски этих пространств, найдем их для различных функциональных групп, то тем самым будет выяснено, что функции могут получить образ, могут быть художественно реально изображены и получат тем самым пространственную основу.  ДВЕННАДЦАТАЯ  О различных пространствах и о функциях, получающих в них художественный образ Прошлый раз мы пришли к тому, что функция может получить художественный образ, что функциональное не стоит в коренном противоречии с формальным. Иллюзорное изображение привело к тому, что функция в какой-либо картине получала заразительный знак, независимо от всего целого, и, следовательно, как результат не цельности изображения получилась голая функция. Действие знака начиналось и кончалось в ощущении, только раздражало ощущение и не получало никакой формы, не входило ни в какую цельность восприятия, не получало никакого пространства. В этом сказалась немощь натуралистического искусства. Но эту немощь, этот недостаток изображения трактовали как преимущество, так как, пользуясь натуралистическим заразительным знаком, не нуждались в том, чтобы создать у зрителя какую-либо форму восприятия, а хватали его, в каком бы положении он ни был, и даже по преимуществу тогда, когда он был сам, так сказать, бесформенным, поверхностно, практически настроенным, и заразительный знак как нечто яркое действовал на него, не требуя перехода зрителя в другое пространство — укалывал, но зато потом оставлял его на собственный произвол строить цепь ассоциаций, ни к чему не приводящих и, во вся-ком случае, выходящих за картину, не возвращающихся к ней и таким образом разрушающих ее. Но такие качества знака: его бесформенность, его поверхностность —принимались за особенную жизненность изображения, так что, в конце концов, восклицание «как живой» стало в искусстве не похвалой, а порицанием. Таким образом, создалось противоположение формального функциональному, как бы взаимоисключение; но это не значит, что функция не может получить художественного образа, но этот образ она находит в каком-либо пространстве: в одном более, в другом менее цельный, а в ином — его совсем не получает. Идя далее, мы могли бы, занявшись различными функциями, найти для них определенные пространства. Но мы сделаем иначе: воспользуемся этим случаем для того, чтобы представить себе ряд возможных пространств. Конечно, то, что нам тут придется пересмотреть, не будет исчерпывающим, но, я думаю, более типичное мы захватим. То, что нам доступнее всего,— это пространство плоскости, вообще двухмерность, и, я думаю, типы, соседствующие с ней, не ускользнут от нас. Труднее будет дело, если мы направимся в ту и другую стороны от двухмерности — в направлении одномерности и в направлении больших измерений. Там дело обстоит сложнее, так как и примеров подобных пространств меньше и, возможно, что нам пришлось бы выйти из пределов изобразительного искусства и обратиться к актеру или чему-либо подобному. Итак, мы попытаемся построить ряд пространств и выяснить, какие функции могут в них получить изображение. То, к чему мы прежде всего обратимся, будет группа осязательно-двигательных поверхностей, к ним будет близка также группа осязательно-зрительных, так что, разбирая первые, нам придется принять во внимание вторые. Но, взяв первыми осязательно-двигательные поверхности, мы, таким образом, как бы сразу обращаемся к двухмерности, и поэтому будет уместен вопрос: возможно ли пространство, созданное путем только одномерности, не может ли быть так, что мы, прежде чем встретим безусловную двухмерность, будем иметь попытки при помощи одномерности воспроизвести двухмерное пространство? Если мы возьмем осязательную поверхность, то элементом ее создания будет осязательное пятно, так что уже в самом элементе мы будем иметь двухмерность и, следовательно, такая поверхность будет безусловно двухмерна. Но такая поверхность будет как бы двухмерной массой, она будет элементарна и должна быть проработана двигательно, для того, чтобы получить свой строй, чтобы получить цельный и в то же время сложный образ. Осязательная поверхность испытывает как бы двигательную переработку, и эта двигательная переработка происходит при помощи одномерности. Но тогда может быть такой случай, когда осязательная двухмерность как бы отчасти отойдет на задний план, от нее останется только некоторый запах, и тогда мы сможем говорить о сложной двигательной одномерности. Это будет происходить тогда, когда материал изобразительной поверхности не будет выразителен для осязания, и тогда осязательный характер как бы забудется и двухмерность придется завоевывать сызнова [с] помощью одномерности. Итак, в группе осязательно-двигательных поверхностей мы будем иметь безусловно двухмерные осязательные, но по своему строению примитивные и двигательные [поверхности], которые иногда будут не безусловно двухмерными, а с некоторым только запахом двухмерности, или даже и без запаха. Тогда потерянная двухмерность должна будет снова завоевываться, и это завоевание произойдет при помощи одномерности, усложнения ее качеств. Примером может служить хотя бы наша книжная страница. Ее строчки представляют собой одномерность и могут быть двигательным скелетом осязательной двухмерности листа, но последняя по каким-либо обстоятельствам может почти совсем испариться и цельность поверхности нам будет тогда возвращена сложным одномерным движением горизонтальных строк вертикального столбца. Ввиду вышесказанного нам нужно разобраться в одномерности, в ее характере и в ее качествах. Прежде всего разберемся в качествах прямой и кривой линий. Можно сказать, что кривая будет по своему характеру двигательнее, чем прямая, и поэтому будет характернее как одномерность, чем первая. Это следует из того, что только замкнутую кривую мы не будем воспринимать как двигающуюся, а прямую ограниченную мы можем легко воспринять как остановившуюся и не имеющую движения; на кривую даже ограничение не будет действовать в этом смысле, мы всегда ее воспримем как прерванное движение, как отрезок чего-то большего. Следовательно, кривая будет двигательнее и в этом смысле одномернее, но и прямая в различном своем положении будет разно относиться к движению — и это в зависимости от возможности мыслить ее предельной. Поэтому, как мы знаем, горизонталь и вертикаль могут иметь различные качества, вертикаль скорее может мыслиться как предельная и поэтому скорее может остановиться и, как следствие, получить даже зрительные качества. А это последнее как бы лишает уже ее основных свойств одномерности и приближает ее по качествам к двухмерному. Итак, типичной двигательной линией нужно признать не прямую, а кривую. Поэтому на пути от одномерности к двухмерности мы прежде всего встречаем поверхность, созданную волнистыми линиями орнамента, главным образом волютой. Характер движения волнистой линии и его качества будут, конечно, определяющими для всей поверхности, которую они характеризуют. Прежде всего, волнистое движение есть самое цельное и в то же время примитивное движение, кроме того, не отвлеченное, а особливо чувственное; оно однородно и не пользуется контрастом; из этих его качеств, то есть примитивности и чувственности, следует, что оно по большей части совместно с простой осязательностью или с красочной зрительной осязательностью. Примером могут служить микенские расписные вазы. Характер волнистого движения лишен контрастов, направлений, и поэтому все направления в такой поверхности будут безразличны: верха и низа не будет принципиально существовать, так же как не будет существовать вертикали и горизонтали. Кроме того, движение будет всюду одинаково, его почти нельзя замедлить или кончить где-нибудь по произволу, так как отрезанная кривая будет только насильственно прерванное движение и поэтому-то волюта будет иметь место в таком пространстве, так как она есть единственно возможный конец кривой линии. Таким образом, мы можем себе представить поверхность, образованную какими-либо волнистыми линиями. Такая поверхность, конечно, не будет обладать вертикалью и горизонталью, будет двигательна, не будет принципиально ограничена и будет не плоскостью, а плавной безграничной поверхностью, например, шаровая. Если мы обратимся теперь к прямым линиям, то наиболее двигательной из них будет горизонталь, и поэтому мы ее и встречаем рядом с волютой на одной поверхности. Даже на шаре горизонталь может найти себе место. Тот факт, что горизонталь появляется на поверхности, не лишает ее двигательного характера, хотя и изменяет поверхность. Но горизонталь как прямая имеет уже принципиальное направление, и поэтому легко возникает контраст в виде вертикали. Но тем не менее мы можем представить себе поверхность, в которой вертикаль либо ослаблена, либо совсем отсутствует, и тогда это будет поверхность, сплошь наполненная горизонталью, причем расстояние между горизонталями не будет измеряемо. Примером может служить поверхность орнамента. Но как только появляется вертикаль, то дело коренным образом меняется. Поверхность, где это происходит, уже не может быть шаровой поверхностью, так как в вертикальном направлении она уже не может быть погнута, и ее типом плавной поверхности будет поверхность цилиндра. Вертикаль и горизонталь сразу вступают в контраст и в силу этого движение становится расчлененным и разнохарактерным, разнокачественным; движение может встретить или перейти в другое, и на такой поверхности вы всюду будете иметь к вашим услугам и горизонталь и вертикаль. Тут опять будет иметь большое значение, соединится ли эта двигательная конструкция поверхности с осязательностью или нет. Осязательность может встретить поддержку в каком-либо материале: в камне или в осязательном цвете. Тут можно сказать, что примитивная осязательность очень близка по характеру к пассивной зрительности, которая могла бы быть названа цветовой осязательностью. Как это ни странно звучит, но, по-видимому, в импрессионизме есть доля осязательности. Итак, большое значение для изобразительной поверхности будет иметь то, насколько в ней участвует осязательное или осязательно-цветовое пятно. Вернемся теперь к вертикали и горизонтали. Тут надо сказать, что вертикаль невольно получает образ оси объема, а горизонталь — образ движения вокруг объема. Но во всяком случае мы на двигательной поверхности хотя и встретим остановку линий, по большей части вертикали, но ни в коем случае не движение линий по другому измерению, то есть вбок. Возвращаясь к поверхности кривых линий, мы можем представить себе, что эти кривые будут стремиться замыкаться, и тогда мы и в такой поверхности найдем остановку линий, как бы линейные пятна, которые, конечно, почти потребуют себе и цветового пятна, и осязательного характера всей поверхности. Итак, в группе осязательно-двигательных поверхностей характер каждой данной поверхности будет зависеть от того, насколько она осязательна и насколько она двигательна, и затем, какого характера это движение — плавное или прямолинейное, имеющее остановки или не имеющее. Но можно, как мы увидим, встретить такую двигательную поверхность, в которой горизонталь и вертикаль не будут ясно выражены, а яснее всего, как первая, будет диагональ, то есть какая-то наклонная (например, в японском искусстве); это можно только разве объяснить желанием хоть сколько-нибудь остановить горизонтальную линию, придав ей подъем, чем ее движение будет замедлено, в то же время не нуждаясь в такой радикальной остановке, какую дает вертикаль. Таким образом, мы имеем массу качеств, которые образуют ту либо иную двигательную поверхность. Примерами таких двигательных поверхностей могут служить вазовая живопись различных эпох, египетская изобразительная поверхность, японская и многие другие. Но представим себе их по очереди и поглядим, что и на каких поверхностях получит свое место как образ. Прежде всего возьмем примитивно-осязательную поверхность, которую иначе можно было бы назвать фактурной. Ученые, исследовавшие изображения некоторых негритянских племен, говорят, что, изображая какое-либо животное, они передают узор кожи, будь то змея, антилопа или жирафа. Так что образом животного будет как бы кусок его поверхности, кусок кожи. Такую же изобразительную поверхность мы встречаем у некоторых [художников], занятых фактурой, и в наше время, и во всяком случае наклейки различных материалов указывают на присутствие качеств таковой поверхности. Но может ли на такой поверхности возникнуть какой-либо другой образ? Мне кажется, что нет, что появление профиля животных связано уже с двигательным характером изобразительной поверхности. Следовательно, тут мы будем иметь пространство, в котором найдет выражение функция поверхностей предметов, качество их кожи; но даже самые предметы, как нечто обособленное и замкнутое, не найдут здесь своего изображения. Следовательно, говорить об остальных функциях предметов как целого и не приходится. Если теперь мы обратимся к поверхности осязательно-двигательной, в которой движение выразилось бы волнистыми линиями, то примером можно взять хотя бы микенскую керамику. Вы вспомните, что в таком пространстве нет вертикали и горизонтали, а следовательно, нет верха и низа. Что же может лучше населять его, чем мелкие морские животные, цветы, птицы, бабочки и так далее. Вертикали нет и, следовательно, нет человека и всех его функций. С появлением горизонтали мы начинаем встречать животных четвероногих, так как там, где [ее] еще нет или она уже теряет свое значение из-за чрезмерного развития вертикали, им живется довольно плохо. Такое появление четвероногих связывается с горизонталью не только в древнюю эпоху, но и в венецианском искусстве, где, как мы увидим, наряду с Тинторетто — поклонником вертикали и диагонали, изображавшим человека, появляются натюрмортисты и анималисты, все время оперирующие с горизонталью (например, Бассано). Правда, там горизонталь другого значения, но об этом потом. Далее, несомненно, что человек в изображении стоит в большой связи со значением вертикали. Весьма возможно, что он может появиться и независимо от нее, только это появление будет совершенно особенным. В связи с этим интересен вопрос о фасе и профиле, как мы его встречаем на осязательно-двигательной поверхности. Если форма характеризуется двигательным контуром, то, конечно, профиль будет выразителен как раз в контуре, тогда как фас будет требовать, чтобы восприняли в первую очередь ту поверхность, которая заключена между контурами, то есть лицо. Но, очевидно, для того, чтобы на поверхности могло бы быть изображено лицо, необходимо, чтобы эта поверхность была бы осязательного порядка или осязательно-цветового, а поверхность с преобладанием двигательного элемента предпочтет профиль. Эти два различных направления представляют поверхность японская и поверхность египетская. Относительно них характерно уже то, как та и другая по большей части изображают землю. Египетская берет ее как горизонталь, а это есть, собственно, профиль земли, также она берет и воду, за некоторыми исключениями. Наоборот, японское искусство старается взять ее в фас как поднимающуюся поверхность. И так во всем. Египтянин берет все в профиль, японец берет по преимуществу в фас, редко пользуясь чистым профилем. Это можно объяснить двигательностью первого и цветной осязательностью последнего, но отсюда следует и дальнейшая характеристика человека и его движений. В сущности, японский человек никогда не стоит, он всегда двигается, он не находит вертикали, которая его бы поддержала. Египетский — стоит очень крепко и даже сидит очень вертикально. Но если японец и двигается, то он двигается как-то особенно. Движение египтянина происходит, согласно профильности изображения, по изобразительной поверхности, и это движение всегда очень живо, но нет мимики лица, так как нет и самого лица, для последнего нужна была бы осязательная основа, которая, по-видимому, была несильна в египетской изобразительной поверхности. Но в японском искусстве мы имеем как лицо земли, так и лица людей и поэтому имеем и очень богатую мимику. Но то, что это согласно и даже зависимо от характера поверхности, подтверждает то, что и вся-кое движение японца или животного в сущности всегда есть очень выразительная мимика; движение выразительнее внутренними черта-ми, чем профилем фигуры. Вы видите, таким образом, что функциональное получило различное выражение в том и в другом искусстве, а кое-что в одном выразилось, а в другом — нет. То есть одни функции получили свое пространство, а другие погибли для изображения, так как были несовместимы с основным характером изображения. 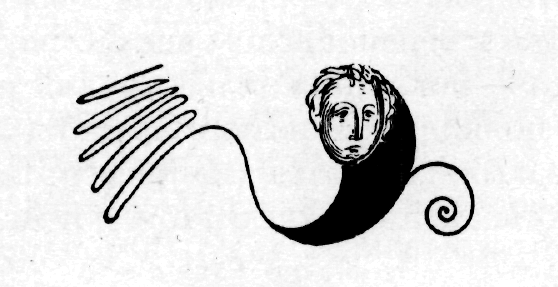  ТРИНАДЦАТАЯ  [О трех типах поверхностей] Итак, двигательная поверхность имеет свое пространство, в котором функции получают свой особенный образ, причем одни получают, другие же не могут быть как-либо изображены на двигательной поверхности. Мы видели, что больший уклон в сторону осязательности обусловливает фасовое изображение предметов, а следовательно, и мимики лица и всей фигуры (как бы сказать, внутреннее движение). С другой же стороны, большая двигательность поверхности обусловливает профильность изображения. Первая [вызывает] живописно-осязательный подход, вторая — более графический, контурный. Затем, на двигательной поверхности, как мы видели, появление той либо другой линии в строе поверхности обусловливает возможность изображения живых существ с их функциями. Так, горизонталь, несомненно, связывается с четвероногими, а вертикаль — с человеком. И это мы можем заметить не только в древнем искусстве, но и в искусстве барокко. Но что касается двигательной поверхности, то главным образом ее беспредельность позволяет изображать на ней не замкнутые образы фигур, каковыми являются профильные изображения; так как ежели бы мы имели поверхность ограниченную или правильную плоскость, то всякий профиль, будучи конструкцией открытой, а не закрытой, имел бы беспредельное движение и, встретясь с границей, нарушил бы ее и тем самым нарушил бы изобразительную поверхность, был как бы не на ней уже, а вне ее. Воспринять его мы могли бы только через вчувствование, вчувствуя себя в его движение и никогда не кончая этого движения, так как конец мог бы быть, только когда мы достигли бы какой-либо цели. Только достигнув какой-либо цели, профиль получил бы полноту и замкнутость, а сам по себе он как бы половина образа, так как в не месть материал пространственности, именно одномерность, но нет еще полноты, нет формы — так стрела вполне понятна и может быть спокойно воспринята, когда она вонзилась, или гвоздь — когда он вбит во что-либо. Иначе мы всегда будем жаждать какого-то конца, который нам не известен, будем как бы ехать на профиле, не будучи в состоянии с него слезть. По-видимому, такую возможность слезть с него и получить некоторый образ его пути, его движения дает нам двигательная поверхность. Следовательно, только благодаря ей профиль становится образом, то есть тем, что получает через изобразительную двигательную поверхность некоторую цельность, тем, что получает пространство своего движения. В этом заключается большое значение изобразительной поверхности, так как без нее мы не могли бы воспринять движение, кроме как вселяясь в предмет, вчувствуя себя в него, и, следовательно, не имели бы формы движения, так как не было бы формы пространства. Без изобразительной поверхности мы не могли бы дать образ отношения предметов. Это сразу становится ощутимым, если мы перейдем к объему, то есть к замкнутым поверхностям, изображающим предмет. Вся двигательная двухмерность поверхности тратится тогда на то, чтобы создать цельность поверхности предмета, и, так сказать, в излишке не остается ничего, где бы могло получить образ движение этого предмета. Если бы такой объем выразил функцию движения, то она не имела бы своего пространства, была бы беспредельна, сделала бы форму открытой, не цельной и, следовательно, нарушила бы объем. Примером нам могут служить египетские статуи, неподвижность которых несомненно обусловлена вышесказанным. То есть они двигательно цельны как объем, но на это истрачено все поверхностное движение, а третьего измерения еще нет, кругом них нет пространства, в котором бы движение получило бы какой-либо образ, следовательно, никакая функция их, в смысле движения всего предмета, не изобразима. Другое дело с движением в пределах поверхности, с движением поверхностным. Если мы возьмем объемные статуи китайцев и индусов, то там мы увидим богатую мимику, которая имеет свое пространство на поверхности объема. Между прочим, подлинным пространством мимики будут маски как греческие, так и восточные, а они являются характерным примером погнутой, стремящейся замкнуться поверхности,— следовательно, объемной, и в них, благодаря дырам рта и глаз, особенно явно сказывается двухмерная основа всякого объема. Ведь и на египетских статуях мы видели, что их поверхностью часто пользуются для иероглифов либо для рельефов. То, что в египетских статуях мимика небогата или ее совсем нет, может быть объяснено особым строем их поверхности, на которой профиль имел большее значение, чем фас, и какими-либо ритуальными причинами. Интересно, что в связи с неподвижностью египетских статуй и замкнутостью их объема, отсутствием пространства для функций движения стоит тот факт, что они принимали большое и живое участие в ритуале, они были участниками обрядов, процессий, таинств и т.д., словом, они как бы участвовали в театральной постановке, были как бы актерами и в них играли, как дети играют в игрушки. |
