Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
Почему это возможно было проделывать, и именно с объемами? Объем имел свое пространство, и это была замкнутая двухмерность; переходов, дверей, лазеек к другому какому-либо пространству у него не было, он был в этом смысле как бы неприступная крепость, тем не менее он соединялся с пространством игры, театра в древнем широком смысле. Каково же пространство игры, знает ли оно двухмерность или трехмерность? По-видимому, нет. Основа игры, действия есть движение, то есть одномерность, и игра, стремясь к форме, дает сложную, может быть, замкнутую, одномерность, как хождение по кругу или что-либо подобное. Таким образом, оказывалось, что одномерность могла соединяться какими-то путями с объемом, он мог быть игрушкой жеста и движения. Кроме того, игра имела свою отвлеченность, статуя — свою, а замкнутость объема — безусловная замкнутость, не давала возможности врываться одной отвлеченности в другую и тем самым не нарушала отвлеченности игры каким-либо своим жестом, так как отвлеченность в одном — в другом была бы ультранатуралистической; поэтому, мне кажется, так до крайности смешны или до ужаса страшны невольные кажущиеся жесты каких-либо статуй, получающиеся либо из-за игры света, либо из-за какого-либо их случайного положения. Объему безразличны стороны, все стороны для него совершенно одинаковы, так как он есть только двухмерность; кроме того, он замкнут, и это дает ему значение единицы, не связанной ни с чем окружающим. Представьте себе, что в процессии носили бы вырезанный плоский профиль, он не одинаково бы относился к окружающему, он пытался бы строить пространство, вступать с ним в какие-то взаимоотношения, и если бы это пространство строилось бы независимо от него, то [профиль], может быть, нарушал бы его или сам выбрасывался из него, словом, у двух различных пространств были бы враждебные отношения. Возможность такого соединения объема с одномерностью игры можно уяснить себе еще следующим образом. Если мы через замкнутую двухмерность, то есть объем, например шар, проткнем спицу, то есть одномерность, то она не исказит формы шара и не нарушит его цельности, она будет существовать наряду с ним. Если мы через шар пропустим цилиндр или конус, форма шара фактически не изменится, но уменьшится или совсем уничтожится его объемная цельность. Этот последний случай можно рассматривать как попытку придать объему функцию движения, и в результате ее мы получим не созданное для движения пространство и нарушенный объем. Ведь для объема стороны безразличны, а за пределами его поверхностей нет никакой атмосферы, ему сколько-нибудь родственной, поэтому всякая функция движения была бы направлена перпендикулярно границам и выходила бы в полную беспространственность. Представим себе третий случай. Мы протыкаем объем не одномерностью, не двухмерностью, какой является плоскость или замкнутая поверхность, а трехмерностью, то есть плоскостью, но двигая ее фронтом по третьему измерению. Что тогда произойдет с шаром или с каким-либо другим объемом? Он перестанет быть объемом, то есть двух- мерностью, а станет трехмерностью, для него потеряется безразличие сторон, а прохождение плоскости чему-то в нем даст значение фронтальной двухмерности, а чему-то значение глубины. Но тем самым объем, погибая как неприступная замкнутость, как обособленная единица, получит пространство для своего движения. Это, конечно, будет происходить более или менее решительно, с перевесом в ту либо другую сторону — в сторону объема или в сторону трехмерного пространства. Примерами таких статуй можно взять хотя бы греческие статуи. Только потому, что в этих статуях есть принципиальная фронтальность, они приобретают пространство для функции движения. Итак, в греческой статуе объем, собственно, нарушен и предмет получает свое пространство, в котором может получить образ функция предмета. Но стороны его тогда перестают быть безразличными как относительно нас, так и относительно его самого, так как одна из его сторон, становясь по преимуществу нам фронтальной, для самой статуи становится в ней принципиальной двухмерностью. Отсюда следует, что фас и профиль могут иметь уже принципиальное значение относительно фронтальной нам плоскости и, таким образом, относительно нас. Поэтому может происходить профильное движение и какое-либо другое; но движения на нас, наперерез фронтальной передней плоскости, быть уже не может, так как таковое нарушило бы переднюю плоскость и таким образом нарушило бы и всю цельность пространства. Когда передо мной был объем, то он был замкнутой единицей, но и я был такой же замкнутой единицей, поэтому между нами могли возникать взаимоотношения, не нарушающие цельности того либо другого. С пространством дело обстоит иначе, мы не можем стать с ним на равной ноге, когда мы чувствуем себя предметом, тем более не можем ждать от таковой статуи какой-либо активности в нашу сторону. Перед нами мир, и поэтому если и возможны отношения, то только тогда, когда мы примем в себя строй этого мира, этого пространства, потеряем свою обособленность, тогда-то мы можем войти в это пространство и жить там. Но если какой-либо предмет попытается пройти к нам или сделать жест через переднюю фронтальную поверхность и завязать с нами отношения, тогда из-за этого одного жеста весь мир, вся пространственность нарушается. Итак, из этого следует, что передняя поверхность не может быть нарушена никакой функцией, а также все подобное изображение не может быть участником какой-либо игры, какого-либо представления, оно может создавать пространство какому-либо действию, через что все действующие единицы получат пространственную типичность, а их действия — двухмерность, трехмерность и т. д. Но последнее скорей относится к живописи или к поздней скульптуре, как, например, статуи Микеланджело, но и то и другое, конечно, имеет много общего. Таким образом, мы, правда, несколько отвлекшись, разобрались в замкнутых двигательных поверхностях, и из этого разбора, между прочим, должно для нас стать ясным, какое большое значение имело графическое или рельефное изображение на двигательной поверхности, так как без него немыслимо было бы дать функции изображение, она не получила бы своего пространства. Идя далее, мы должны теперь обратиться, во-первых, к двигательно-зрительной плоскости, каковой будет греческая, и затем к зрительной. Примером двигательно-зрительной плоскости будет греческий рельеф и греческая живопись или графика. То, что говорилось выше относительно фронтальной поверхности и глубины, касается уже греческого рельефа. Но тут надо напомнить, почему мы называем греческую плоскость двигательно-зрительной. А именно потому, что она — плоскость. Она есть в плоскости построенное двигательное восприятие, получившее по этому самому зрительную цельность. Следовательно, все, что касается функционального в двигательной поверхности, имеет место и здесь с двумя оговорками. Ведь плоскость ограничена и кроме того она более насыщена вертикалью и горизонталью, следовательно, на ней пространственные отношения тоньше и, следовательно, тоньше и детальнее изображения функций. С другой стороны, функция получает образ, только когда она здесь же, в изображении, кончается, то есть замкнута либо сама в себе, либо другой функцией, иначе она нарушила бы пространство. Отсюда, как мы видели, встреча двух профилей и отсюда же — любовь к более или менее фасным поворотам. Далее, греческая изобразительная плоскость, будучи замкнутой, но тем не менее двигательной, может изображать рассказ, отношение предметов, и, хотя изображения часто разновременны, тем не менее жест фигур связывает их друг с другом на расстоянии. А замкнутость всей композиции и любовь к фасу позволяет уже изображать состояния отдельных людей, дает образ этим состояниям, как, например, грусть или что-либо подобное, которые требуют замкнутости от отдельной фигуры. Итак, в греческой изобразительной плоскости мы видим, с одной стороны, ограничение функционального, например, безграничного движения; с другой стороны, видим расширение функционального в смысле внутрипространственного действия и в смысле внутреннего состояния отдельных фигур. Но во всяком случае функциональное на греческой плоскости является ограниченным в смысле фактурном, так как осязательность несовместима с явлением глубины и всякая ее выразительность будет нарушением зрительности и, следовательно, глубины. Но в общем греческое изображение имеет предметы и пространство; предметы, правда, пространственно типичные, но не потерявшие свое значение предметных единиц и действующие в пространстве наряду с себе подобными; пространство же имеет постоянный и простой строй, не перерождающий предметы. Не то мы видим в зрительной плоскости. Примером зрительной плоскости мы можем взять хотя бы византийскую иконную плоскость. Ее зрительность, между прочим, обусловливается ее крайним вертикализмом. Она как бы создана движением вертикали вбок, а поэтому горизонталь в ней не имеет меры, так как таковая плоскость может быть как бы осажена, сжата в горизонтальном направлении, сжата до нуля или даже перетянута в отрицательную протяженность по горизонталь-ному направлению. Отсюда следует, как мы уже знаем, что все вертикали на данной изобразительной плоскости есть в сущности одна и та же вертикаль, единовременно в разных местах присутствующая. Таким образом, получается чрезвычайная единовременность всей плоскости, возможность и даже необходимость в каком-либо центре, так как на какой-либо из вертикалей мы и можем и должны остановиться, чтобы воспринять другие. Но отсюда же получаются области бокового зрения, которые подчиняются центру тем, что стремятся к нему, а не от него, подчиненность их центру дает, всему пространству, правда, центральность, но, с другой стороны — замкнутость и замкнутость сферическую, то есть границ, собственно, у такого пространства уже нет. По аналогии с самим пространством строится и человек и каждый предмет; он сам по себе тоже есть уже сферическое пространство, имеющее центр и боковые области, и поэтому он замкнут, но в то же время он может подчиняться какому-то главному центру. Кроме того, какой-либо предмет может быть пространством для другого предмета. Из всего вышесказанного ясно, что такое пространство не будет однородным, движение в нем не может пройти бесследно для предмета — он может попасть в центр, а может попасть в боковую область — и от этого будет зависеть его образ, а также и образ его функций. Но отсюда же следует и то, что зависимость между предметами, их взаимоотношения могут быть выражены строем пространства; и уже то, что строй этот проникнут вертикалью, способствует выражению отношений именно между людьми, словом, это человеческое пространство. С другой стороны, в таком пространстве, которое без всякого сомнения есть мир, и отдельный человек получает цельность мира, он может быть всецело замкнут в себя, поэтому будет иметь свой внутренний строй, который выразит его состояние. Может быть и так, как я говорил раньше, что один человек служит для другого пространством и, таким образом, их взаимоотношения становятся чрезвычайно тесными — это один человек. Так, например, связь матери с ребенком нигде, ни в каком пространстве не могла бы быть выражена так сильно, как на византийской поверхности. 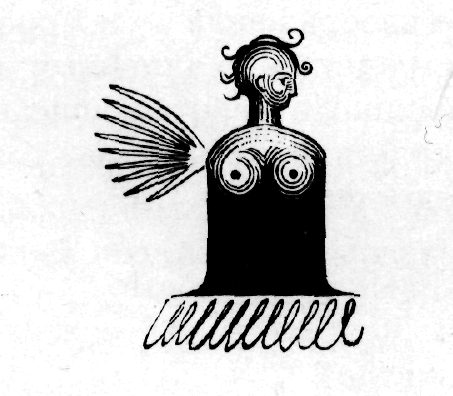  ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ  [Об изменениях в методе перспективного изображения] Мы в общих чертах выяснили возможность изображения функций. Конечно, мы не смогли установить твердых законов, но существование связи между изобразительным методом, изобразительной поверхностью и функцией для нас выяснилось. Словом, выяснилось, что определенная функция может получить образ не во всяком пространстве, а в пространстве определенного строя; и, с другой стороны, на определенной изобразительной поверхности будут изобразимы не все функции, а определенная их группа. Так, например, чтобы дать изображение состояния человека, необходимо изобразить лицо, а это возможно только при фасе; итак, та поверхность, в законе которой будет фасовое изображение, сможет дать образ состояния человека. Это будет не всякая изобразительная поверхность, а только либо осязательно-цветная, либо зрительная плоскость; на той и на другой, особенно на последней, возможно изображение замкнутое, остановившееся, а поэтому возможен и фас. Наше путешествие в область функционального было вызвано тем, что мы, рассматривая условное и иллюзорное изображение, встретились там с голой функцией, не имеющей своего пространства, встретились с возможностью возбуждать в нас интерес к функциональному через условный или через заразительный знак. Виновником иллюзорного изображения, которое передает функциональное заразительным знаком, является, несомненно, пассивное зрение, и главным методом такого изображения будет перспектива. Итак, перспектива виновата, в конечном счете, в том, что мы должны были поднять этот вопрос. И дальнейшее наше рассуждение будет вестись, принимая во внимание перспективу. При наличии иллюзорного перспективного изображения стало возможно нехудожественное изображение функции, а также нехудожественное воспроизведение зрительного подобия предмета, лишенного цельности изображения, не имеющего образа, который мог бы быть цельно воспринят, и, следовательно, лишенного пространственной типичности, лишенного пространственного смысла. Но при сколько-нибудь активном отношении к изображению дело, конечно, так остаться не могло, не могли ограничиться воспроизведением пассивного зрения, [которое], кроме того, своей иллюзорностью уничтожало всякую изобразительную поверхность. Естественно, что искусство, поставленное в такое положение, могло работать в двух направлениях. Во-первых, могло вносить поправки в самый метод перспективного изображения, стараясь перестроить его так, чтобы получился в результате образ пространства; и, во-вторых — обратиться к предмету и работать над его формой, чтобы дать ему ту или другую цельность, создать предмет, орудуя которым как некоторым кирпичом, как некоторой единицей, можно было бы построить цельное пространственное здание. В этих двух направлениях идет работа итальянского искусства. Причем можно сказать, что начало его возрождения, например Джотто, в основном сходится с концом, то есть с Микеланджело. Между ними лежит натурализм и перспектива, но у Джотто еще сильна художественная цельность изобразительной поверхности, так что требования перспективы и иллюзорности не нарушают ее, а только придают всему изображению некоторый рационалистический характер. У Микеланджело же, оставившего перспективу за собой, положение другое, но с тем же результатом, он уже борется с перспективой во имя изобразительной плоскости и во имя цельного изображения. Но результат тот же, то же отношение к пространству. У Джотто необходимость цельности пространства была ему передана традицией средневековья как западного, так и восточного, но [она] переживает уже изменения из-за интереса к отдельному предмету, который должен был получить иллюзорный образ. У Микеланджело возрождается цельность пространства после периода, когда старались разрушить изобразительную поверхность иллюзорностью, и возрождается отчасти тем, что ищут образ предмета и уже через предмет строят цельность пространства. Отсюда естественно возникает интерес к определенному предмету, так как ищут предмета, способного быть единицей пространства, кирпичом пространственного здания. Таким предметом, как мы видим, является человек, оказывается, что именно он способен быть этой единицей, быть кирпичом этого здания. Мы постараемся в дальнейшем объяснить, почему это происходит, почему именно человек, по своим формальным качествам, способен стать единицей, мерой пространства. Но так либо иначе — от пространства к предмету или от предмета к пространству — результат получается почти тот же; и мы видим у Джотто в живописи и у близких к Джотто скульпторов-пизанцев формы, чрезвычайно родственные микеланджеловской скульптуре и живописи. Между ними лежит период работы над предметом, анализ его, выразившийся в изучении анатомии. Таким образом, мы могли бы и наше рассуждение вести тоже от предмета и дойти до того, как этот предмет формуясь постепенно создал пространство. Мы так и сделаем, но прежде мне хотелось бы в общих чертах представить характер нового отношения к пространству, так сказать, основу нового отношения. Поэтому мы разберемся в некоторых качествах пространства, которые нам дают живопись Джотто, близкие ему скулыгторы-пизанцы, мелкая скульптура из слоновой кости и, наконец, скульптура и живопись Микеланджело. Уяснение этих качеств даст нам возможность выяснить, какую роль в подобном пространстве мог играть предмет и именно человек. Итак, начнем. Но так как весь вопрос связан с перспективой, то здесь нам надо припомнить, во имя чего, кроме иллюзорности, могла возникнуть перспектива, и к тому же вспомнить ее изобразительные качества. Раньше было высказано предположение, что пространство может получить только композиционное изображение. Словом, только пользуясь композиционностью восприятия, а не конструктивностью, можно изобразить пространство. Конструктивность мы определили в свое время как организацию движения в двигательную цельность (конструкция есть организация различных движений в цельное двигательное отношение) и композицию как приведение движения к цельному зрительному образу. Композиционность основана на том, что, например, двухмерность, построенная конструктивно и осознаваемая как равновесие каких-либо сил, в конце концов осознается нами как безусловно цельная, несоставная, неделимая на составные силы; такое восприятие двухмерности будет композиционным. В сущности, и в подобном восприятии будет движение, но это движение не сознается нами как таковое, а воспринимается как единовременность. Только осознав двухмерность как не составное, а цельное, мы можем двинуть ее в глубину и получить таким образом третье измерение пространства. Покуда же она является построенной из каких-то сил, то есть конструкцией, при восприятии которой мы сознавали движение этих сил, до тех пор мы не можем двинуть ее в глубину, до тех пор у нас не возникало бы глубинного движения. Следовательно, образ пространственной трехмерности для нас был бы недоступен. Если мы теперь обратимся к византийской изобразительной поверхности, то мы должны вспомнить, что, объясняя ее, мы представляли ее созданной движением вертикали в горизонтальном направлении. Но возможность говорить о движении дал нам только аналитический подход, тогда как воспринимаем мы ее, именно из-за этого движения, как наивозможную пространственную единовременность. Следовательно, опять Композиционность византийской изобразительной поверхности дала возможность изображению пространства. Если мы теперь обратимся к египетскому изображению, то, несомненно, изображение предмета мы должны признать конструкцией, так как оно определенно двигательно и цельность его конструктивного характера. Но беспредельное двухмерное пространство, в котором живет этот предмет, та изобразительная плавная поверхность возможна только на основе, правда, примитивной, композиционности осязательного пятна, то есть основывается на цельности непрерывного движения и на цельности двухмерного в осязании. Итак, в египетском изображении мы должны признать примитивную Композиционность движения. Словом, понятия композиционное™ и конструктивности можно пояснить примером из геометрии, в которой говорится, что круг можно рассматривать как предел вписанного и описанного многоугольника. Правильные многоугольники, в которых мы всегда знаем число сторон, воспринимаются нами как конструкция, и, в сущности, сколько бы мы ни увеличивали число сторон, мы не дойдем до круга, если не введем нечто новое, а именно — непрерывное движение кривой, словом, мы принуждены ввести новый принцип — принцип композиционности. Так вот, без такого принципа непрерывности или, больше — единовременности, как нам кажется, невозможно изображение пространства. Но этот принцип вводит в изображение интуицию, неподсудную рассудку, известную иррациональность. По-видимому, всякое изображение пространства таким образом будет иррационально, так как будет композицией, а конструкции останется изображать предмет. Непрерывность и единовременность дают возможность изобразить беспредельность пространства, так как пространство должно быть беспредельно, иначе оно будет только куском его. Египетская изобразительная плавная поверхность принципиально беспредельна и тем самым дает образ пространства, но это есть как раз ее интуитивная, иррациональная сторона. Византийская изобразительная [поверхность], кроме того что беспрерывна, она и единовременна; помимо того она сферична или стремится замкнуться в сферу; это делает ее образом беспредельного пространства, замкнутого в себе, но во всяком случае то и другое возможно только при наличии композиционного принципа: осознания движения не как движения, а как единовременности или даже обратного положения во времени, что мы видим в областях бокового зрения. Если мы теперь обратимся к греческому рельефу, то, что касается глубинного движения, которое мы можем себе представить как бесконечное деление пространства между передней и задней плоскостью рельефа параллельными им плоскостями, то бесконечное деление все-таки не дает нам глубины до тех пор, пока мы не признаем непрерывности этих делящих плоскостей и даже их единосущности и, таким образом, единовременности. Итак, и в греческом рельефе возможно выразить в предельном беспредельную глубину только на основе композиционности подхода. Но если мы подойдем к греческому рельефу со стороны его двухмерности, то здесь дело будет обстоять несколько иначе. Несомненно, его двухмерность принципиально ограничена и обладает зрительной цельностью, но она тем не менее, не имея сильного вертикализма, будучи еще двигательной, не способна в границах своих дать беспредельное, и поэтому ее границы вправо и влево имеют несколько насильственный характер и заставляют смотреть на рельеф как на вырезок из пространства. Но оставим пока эту линию рассуждений и обратимся к выяснению, может быть, побочной, а может быть, и основной причины возникновения перспективы, причины, помимо иллюзорности изображения. Как мы видели, изображение пространства в существе своем иррационально, и эта иррациональность сказывается на изображении предмета (который может быть ведь воспринят и как конструкция, словом — форма, подведомственная логике и рассудку), а также на отношении предмета к пространству. На византийской поверхности, например, предмет настолько связан с пространством, что он получает форму в зависимости от того, где он находится, различную: он может попасть на центральную зрительную вертикаль и тогда он сам будет как бы замкнутым миром, но может попасть и в боковое зрение и тогда его форма выразит подчинение всей этой боковой области центру и т. д. Словом, предмет не противопоставляет себя пространству, он есть только некоторый пространственный центр или узел. Таким образом, и на отношение предмета к пространству распространяется иррациональность. Отчасти то же самое происходит и в египетском изображении, так как египетский профиль тоже не стоит в определенных логических отношениях с беспредельной поверхностью, ибо предельное не может состоять в логических отношениях с беспредельным и профиль связывается с пространством своим беспредельным движением. Так вот, принимая во внимание иррациональность изображения пространства, иррациональность отношений предмета к пространству, можно себе представить, что кому-то захотелось бы дать не композиционное изображение, а конструкцию пространства, форма которой была бы подсудна логике и рассудку и в которой отношения между предметом и пространством были бы рациональны. Вот мотив возникновения во время Ренессанса перспективы. Но как мы знаем, перспективное изображение не удовлетворяет цельности изображения, так как, с одной стороны, его двухмерность обладает известной цельностью, хотя и является вырезком пространства, а с другой стороны, эта цельность нарушается дурной бесконечностью глубины, которая в лучшем случае [есть] одномерность, да и то не цельная. Но оставив эту нецельность перспективного изображения, мы, во всяком случае, можем сказать, что эта, хотя и не цельная для восприятия, конструкция обладает условием рассудочности и в ней отношение предметов к пространству тоже удовлетворяет этому условию. Так вот, с этим характером перспективного изображения имеет нечто общее греческое изображение, хотя бы в скульптурном рельефе. Во всяком случае тут мы видим определенные и постоянные отношения предмета к пространству. Это условие относительно глубины соблюдается тем, что в глубину дается только один человек, а в ширину -аналогия с перспективой почти полная, так как греческий рельеф в своей двухмерности является всюду однородным и есть, собственно, вырезок из пространства. Следовательно, в смысле двухмерности такое изображение не есть образ пространства, а только изображение куска. Византийская поверхность уходит от этого тем, что стремится к сфере, становится погнутой поверхностью. Но сейчас мы увидим и другой исход, который, конечно, буквально не совпадает с перспективой, но до некоторой степени отвечает тому рационализму, который создал перспективное изображение. Если мы возьмем скульптурные работы Никколо Пизано и его мастерской и затем Микеланджело, то мы заметим в них общий метод подхода к куску. Мы знаем уже, что, имея дело с твердым материалом, скульптор, прежде изображения какого-либо предмета, работает над тем, чтобы кусок приобрел пространственно типичную форму. Пространственная типичность куска может быть очень разная, во всяком случае мы можем различить три определенных подхода. Египтянин делает кусок цельной замкнутой поверхности, фронт статуи является только одним из этапов этой поверхности. Грек уже в куске осознает фронтальную сторону, в куске уже кладет зрительную переднюю поверхность, которая по большей части нерушима и позволяет считывать глубину изображения цельным глубинным движением. Но боковые стороны куска остаются для грека как бы невыясненными, и их создает движение фигуры, не встречая с этой стороны никаких преград. У Микеланджело — отчасти, а у пизанцев очень резко выступают определенные боковые границы куска, так что статуя получает не только непереходимую переднюю границу, но и границы боковые, которые не могут быть нарушены, так создается как бы кусок, в котором может поместиться человек со своими стесненными движениями. |
