Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
  О художественной правде Когда говорят об искусстве, то прежде всего возникает вопрос о правдивости. [...] Но ведь нужно говорить о художественной правде, о художественной правдивости. И мне хочется разобраться в этом. Существуют люди, которые считают, что копирование действительности и есть изображение правды. Вспоминаются все возражения против этого, сводящиеся к тому, что, дескать, создавать вторую березу или второго человека — нужно ли? Но, кроме этого, оценка произведения должна быть произведена по характеру времени, на него истраченного. Очень важно, чтобы при взгляде на произведение было видно, как художник провел это время — творчески ли или рабски тратя его капля за каплей. В этом, мне кажется, нужно искать оценку копирования, и детальность изображения тут ни при чем. Если детально, следовательно, много проведено времени, но творчески — это будет достоинством. Но в искусстве правдивость обусловливается очень многим. Художник должен заинтересоваться чем-нибудь, каким-нибудь явлением или предметом, в конце концов, можно сказать — влюбиться в него. Искусство обладает особым качеством. Встречаясь в жизни с предметами, обращаясь с ними, знаешь, как они называются,— а эти названия сами по себе в какой-то момент были образами. Но в нашей жизни мы с ними обходимся как со знаками, помогающими памяти. Эти знаки часто заслоняют от нас вещи. Мы знаем их как знаки, а не как вещи. Вот искусство как бы снимает эти маски. Оно прежде всего как бы делает вещи непонятными. Приходится вновь раскрывать, что это такое, и тогда вещи открывают совсем незнаемые стороны. Кроме того, искусство обладает свойством освобождать художника от него самого. Художник, рисуя, изображая что-нибудь, прежде всего забывает о себе и всецело погружается в то, что он видит. А это, потеряв свой знак, свой обычный смысл, открывается ему как что-то неизвестное, новое, совсем необычное. Следовательно, правда художественная глубже, чем просто правда. И интерес к вещи, к какому-нибудь явлению должен превратиться в трепетную любовь. Но это не все. Как ни странно, а в правде участвует фантазия. Так, например, изображая лес, вспоминаешь готическую архитектуру, или гирлянды еловых веток напоминают какие-то подборы материй, торжественные складки, праздник. Однажды я ехал в трамвае и занялся глазами — смотрел, как у каждого сделаны глаза. Меня поражала простота выполнения — простые средства, а сколько смысла! Но, кроме того, всегда присутствовала и фантазия — во всех глазах чувствовались очи, всюду вспоминался идеал. И это делала фантазия. Иногда она очень сильна, иногда чересчур. Так, например, у Гоголя с Днепром — он так широк, что птице не перелететь. Но первый интерес к вещи и даже любовь к ней — это начало субъективное. С него начинается изображение, и тут преобладает явление вещи, как она кажется тебе. И поэтому естественна проверка ее более объективным подходом, то есть — как вещь на самом деле существует. Тут, между прочим, метод искусства дает художнику и углубление в вещь, и любовь к ней, и в то же время некоторую объективность, как бы высшую правдивость, даже жалость к ее простоте и бесхитростности и сложности. Кроме того, всякое изображение предполагает материал (в скульптуре это камень и глина) и изобразительную поверхность, например, выпуклую на кувшине и плоскую или вдавленную в апсиде. И это дает возможность по-разному изобразить то, что хочешь. И при изображении раскрываются разные стороны вещи. Например: девушка и слоновый клык. Движение, изгиб слонового клыка может сказать что-то о движении девушки. Так тема девушки несет красоту и мысль, а клык — изящный изгиб и атласную кожу. И постепенно девушка воплощается в клыке, а клык — в девушке. Мне кажется, что не готовое что-то изображаешь, а материал. И идея и тема, приближаясь друг к другу, постепенно меняются. И это все входит в изображение художественной правды. Правда — в изображении правды материала. Правда утверждается как вещь в материале. [Нач. 1963 года]   Время в искусстве 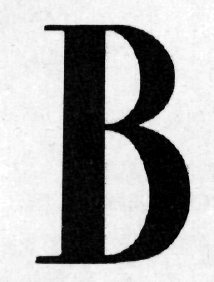 сякое восприятие художественного произведения происходит во времени. Как и всякое состояние или действие тоже происходит во времени. По большей части время представляют как текущую реку. А это неверно. Иногда оно сочится, иногда дует, если сравнить с ветром — шквалисто, неравномерно, подвертывая нам то одно, то другое, как ветер, который по земле волочит газеты. сякое восприятие художественного произведения происходит во времени. Как и всякое состояние или действие тоже происходит во времени. По большей части время представляют как текущую реку. А это неверно. Иногда оно сочится, иногда дует, если сравнить с ветром — шквалисто, неравномерно, подвертывая нам то одно, то другое, как ветер, который по земле волочит газеты.Все существует во времени. В пространстве и во времени. И все нами воспринимается во времени. Так что восприятие произведения тоже происходит во времени. Как измерить время? По-видимому, оно у каждого человека разное и зависит прежде всего от пульса. А если мы измерим его мыслями, то оно может быть очень медленным, а может быть очень быстрым, в одно мгновение может пройти масса мыслей почти со скоростью света. Все, что мы видим,— большей частью в движении, так что тоже во времени. Восприятие пространства происходит тоже во времени. Так художник, чтобы быть правдивым, быть реалистом, должен изображать время. Каким образом? Человек идет. Лошадь шагает... Моментальная фотография передаст человека с поднятой ногой или лошадь, стоящую на одной ноге. Художник должен взять момент движения, соединить его с предыдущим моментом и с последующим так, чтобы один момент переходил в другой. Если художник передает пространство, то он изображает обычно больше того, что может одновременно увидеть, в силу этого, передавая в изображении точку зрения, а точку зрения важно передать правдиво, он невольно встретится с боковыми областями и [будет таким образом] принужден соединить разновременное. Между прочим, смысл композиции в том, чтобы изобразить время. Композиция — это и есть соединение разновременного в изображении. Но если мы остановим модель и сами остановимся, то все равно будет время в нашем восприятии, так как мы обладаем двумя глазами - бинокулярностью. Представим себе, что перед нами глубина, которая делится на планы. Там, где конвергируем глаза, получаем одно изображение, там, где не конвергируем,— два изображения. Возьмем карандаш и поставим перед собой. Если мы будем смотреть на карандаш — то, что находится за ним, двоится; если мы смотрим на задний план, то двоится карандаш. Так что если мы имеем перед собой четырех плановое пространство, то, глядя на первый план, мы видим, что двоятся второй, третий, четвертый. Если смотрим на второй план, то двоятся первый, третий и четвертый. Если смотрим на третий план — то двоятся первый, второй и четвертый. Если смотрим на четвертый, то двоятся все, кроме четвертого. Значит, в какой танец я заставляю пускаться вещи, глядя последовательно от плана к плану! Следовательно, в бинокулярности заключено время в очень сжатом виде. Композиция встречается с бинокулярностью. Пример может быть повседневный, правда, не такой сложный,— это окно, переплет окна. Мы смотрим на раму — пейзаж двоится, смотрим на пейзаж — рама двоится. Вот художник хочет что-нибудь изобразить. Может быть, не надо называть его «художник», а — «изобразитель». Он выключает время, насколько это возможно, в этом ему помогает система прямой перспективы, он ограничивается одним глазом, потому что двуглазие, стереоскопия — уже время, сжатое до момента,— и копирует натуру механически, так, как видит один глаз, подобно моментальной фотографии. И когда кончает копировать, смотрит — и очень доволен, что изобразительная плоскость уничтожилась. Но время ждет, когда ему ворваться. Оно входит и распоряжается всем изображенным: подсовывает то, что должно смотреться после,— в первую очередь; подсовывает в полном беспорядке; с тем, что должно смотреться в глубину, рядом — то, что должно смотреться на нас. В результате, так как изобразительная плоскость все-таки недостаточно исчезает, целые части картины вываливаются из рамы. Получается не порядок, а беспорядок. Ни о какой цельности восприятия нельзя говорить. Тут интересно будет отметить, насколько система прямой перспективы соответствует действительности. Она не учитывает время. Уже это одно делает то, что она изображает, нереальным. Кроме того, она правильна только относительно поля зрения и то неточно. Затем, угол зрения, то есть величина фигур тоже неверна. Мы всегда преувеличиваем то, что далеко, на что смотрим издали, и в этом смысле сокращение перспективное будет неверным. Насчет бинокулярности, стереоскопии нужно сказать следующее: это явление — двуглазие — замечательное явление, получается сжатие времени в один момент и, следовательно, опыт изображения единовременно разновременного. Чтобы двинуть в глубину плоскость, два измерения — в направлении третьего, необходимо, чтобы эти два измерения были приведены к цельности, то есть разновременное должно быть соединено по возможности. Представим себе волюту в форме буквы S. Подобную кривую мы воспринимаем движением, не сразу. Если же мы перечеркнем ее прямой, то некоторые ее точки соединим более быстрым движением, они будут более единовременны. Возьмем «Надгробную стелу Гегесо». Там сидит женщина — плавно, подобно букве S, но ее движение просит прямую, которая соединит разные точки ее тела, и, таким образом, эти точки станут более единовременны. Рассмотрим эту стелу. Если мы возьмем стоящую перед Гегесо прислужницу и представим себе ее как вертикаль, то, двигая ее веерообразно через все изображение, мы таким образом объединим плоскость. Прямые линии будут ускорять объединение моментов движения, а веерообразное движение должно нас убедить в том, что его образовала одна прямая, которую мы передвигаем по всему изображению веерообразно, и так подобие доводим почти до тождества. Это «Гегесо», а вот «Стела со всадником». Здесь два веера, идущие из разных углов через торс коня, поднятого на дыбы, через торс низвергнутого неприятеля и так далее и тому подобное — это, с одной стороны. С другой стороны, копье и торс всадника являются основанием веера. Способы объединения плоскости разнообразны. Иногда это простая симметрия, например, Эгинский фронтон, где позы воинов совершенно симметричны. Иногда это сложная симметрия, как во фронтоне храма Зевса в Олимпии. Там есть группы, изображающие женщин, борющихся с кентаврами. Группы хиастичные*. Они симметричны друг другу, и в то же время они параллельны, так что мы видим в них подобие по параллельности, кроме симметричности. И еще бесконечные решения поверхности мы встречаем. Плоскость — два измерения — приводится различными способами к цельности. Когда двухмерность цельна, то мы можем ее двинуть в третьем измерении, в глубину. Если художник рисует натуру, для него важно создавать планы. Если он останавливается на какой-то точке, то выискивает вторую и третью того же плана, прежде чем идти дальше, в глубину. А движение от точки, не создав плана дальше — не будет движением в глубину, а будет движением по какому-то измерению, скорее всего — первому, хотя и в ракурсе. Каким образом художник находит нужные точки, объединяющие план? Это в разных случаях по-разному. Подобие точек, подобие направлений, сходство положений ему в этом помогает. Говорят, что Микеланджело сделал восковой эскиз «Давида» и, когда рубил, положил его в ванну и спускал воду. Таким образом выяснялись планы. В данном случае мы имеем то же самое движение двух измерений в направлении третьего. Конечно, это происходит сложнее. Мы, двигаясь, помним все моменты, видим и передний план, ведем и двигаем его и в то же время с ним не расстаемся, хотя и идем в глубину. Тут важно, как мы двигаем, быстро или медленно. Это типично для классического рельефа. *Хиазм — разработанное древнегреческими скульпторами положение стоящей человеческой фигуры с упором на одну ногу и приподнятым противоположным плечом (Прим. ред.). Среди стел есть еще другие решения, очень интересные и сколько-то предваряющие византийские решения. Одна стела построена так: обрамлена сверху фронтоном, снизу — линией земли, с боков — фигурами, которые решены горельефно, они как бы служат рамкой, а в середине барельефом даны сидящие фигуры. Восприятие барельефа очень пространственное, тогда как боковые фигуры, горельефные, выступают на нас, окружают нас. Когда мы смотрим на середку, то боковые фигуры воспринимаются как прошедшее. Тут явное изображение времени: середина — настоящее, а боковые фигуры — прошедшее. Это близко к обратной перспективе. Некоторые думают, что обратная перспектива — это система, заменяющая прямую. Но это не так. Система прямой перспективы в своих элементарных частях, таких как: заслонение вещи вещью, горизонт, сокращение,— отчасти соответствует нашему восприятию. А композиционное оформление изображения будет решено обратной перспективой. Обратная перспектива может выбрать план, подчинить план — словом, придать планам особое значение. Если мы возьмем «Владимирскую богоматерь», то прежде всего мы увидим, что контур фигуры богоматери есть граница пространства. Все внутреннее — и лицо, и Христос — будет глубиной. Контур не решает объема, а делает пространство. То же самое, хотя и более сложное, мы видим в «Троице» Рублева. Внешние контуры Троицы — круг, в который она заключена; он является внешним обрамлением, делает ее миром, подобно тому, как в греческом рельефе середина — пространственна, а боковые контуры идут на нас. Тут нужно заметить, что мы не ограничиваемся своим движением. Мы начинаем приписывать самому изображению движение. И оно нас обнимает. То, что у итальянцев уходило в глубину, характеризуя объемы, здесь — идет на нас. Когда мы изображаем что-нибудь, то это — мир. Почему мир? — Изображение цельно, все части друг с другом связаны, все ограничено, ни убавить, ни прибавить нельзя. Но есть картины, в которых две картины, два мира. Так, например, переплет оконный. Он может быть решен цельно, как и пейзаж, видимый через этот переплет. Или, например, тени в каком-нибудь натюрморте могут составлять особую цельную картину в картине. Таким образом, мы, создавая разные миры, подчиняем их друг другу; и одни — пропускаются нами как прошлое, а другие — становятся настоящим. Иногда это первый план и часто — последний. Не ходить же нам к нему, к последнему плану, и он двигается вперед. Он может быть ближе, чем первый план, который нами рассматривается как глубина, уходящая в пространство. Тут хотелось бы еще сказать о бинокулярности. Если мы представим себе стол, который от нас уходит своими длинными сторонами, то эти стороны будут двигаться так же, как сказано выше. Там, где я буду фиксировать взгляд, конвергировать зрение на каком-то плане стола, он будет смотреться спокойно, а ближе — эти контуры будут двоиться, и дальше — то же самое. Так что мы нашим зрением можем выбирать ширину стола. Она все время будет меняться, то расходиться, то сходиться, в зависимости от того, куда мы смотрим. Если смотрим на первый план, то дальний будет шире, на задний план — ближний будет шире. Кроме того, нужно заметить, что тут действует закон контраста. Однажды мне пришлось ехать по горной долине на автомобиле. Дорога шла явно в гору, и навстречу мне бежали арыки; но, как только дорога шла более ровно, движение в гору ослабевало, но все-таки было в гору,— движение арыков, мне казалось, было тоже в гору. Вода шла наверх, хотя на самом деле они шла под горку. Действовал контраст подъемов: более слабый подъем в силу контраста казался спуском. Мы преувеличиваем дальние масштабы. Например, если разница между далью и близью небольшая, то нам кажется, что даль не уменьшается, а увеличивается. Так, например, если смотреть на полосы железа на крыше в бинокль, то даль увеличивается, а полосы вдали — все-таки уже, чем впереди. Полосы железа не сходятся, а расходятся. Между прочим, у японцев на гравюрах пол изображается всегда строго параллельными досками, а нам кажется, что линии, которые рисуют доски, расходятся. Живя на берегу реки, противоположный берег которой гористый, мы видим его большим, если же снимаем фотографию с него, то это впечатление не сохраняется. Мы не можем передать фотографией его величину. Все это дает тенденцию к обратной перспективе. [Март-апрель 1963 года] Содержание формы   одержание и форма» — так повсюду всегда определяется искусство. Но мне казалось, что части этого дуэта слишком механически друг к другу относятся: форма — этовместилище содержания, в форму вкладывается содержание. Конечно, при этом говорится, что произведение неразрывно связано в целое и это разделение только условно — ведь это термины, а термины — вещь условная. Мне казалось раньше, что «содержание и материал» — правильней чем-то. Но и то и другое положения требуют массы оговорок и ни в коем случае не характеризуют противоречивости и сложности всего произведения. Теперь я скорей склонялся бы к гетевскому построению — «правда и фантазия». Тут чувствуется противоречивость, они не равнодушны друг к другу. Из их противоречия складывается синтез произведения. Но сейчас я не хочу этим заниматься и приму, хотя бы условно, «содержание и форму» как обыденный дуэт. Но тут я должен сказать: нет содержания чистого, совсем без формы и нет формы без содержания. Когда я в издательстве получаю содержание — а что это такое, как не содержание? — какую-нибудь тему, то я сколько-то мыслю ее как форму, так как она обусловлена разными обстоятельствами, это влияет на содержание и оформляет его. То же самое с формой. Кажется, что материальное существование формы уже достаточно, чтобы в ней мыслилось какое-то содержание. И я хочу сейчас заняться выяснением содержания различных форм, иногда более сложных, иногда менее сложных. Начнем с проволоки. Проволока, независимо от толщины,— это объем, какая-то поверхность, пусть малая, которая замыкает материал; а в сущности, мы воспринимаем проволоку, независимо от ее толщины, как одномерность. Мы говорим — «моток проволоки», «намотать проволоку»; она для нас всегда одномерна, и мы этим пользуемся, противопоставляя ее плоскости или объему. |
