Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
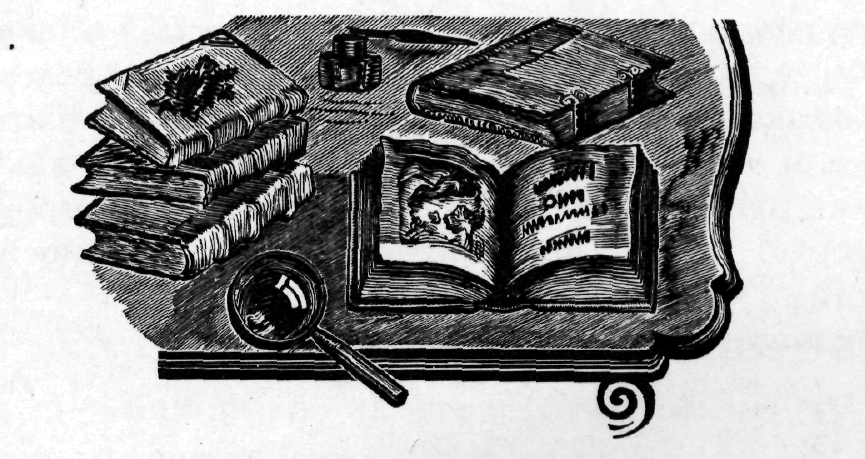 Искусство тоже познает Когда мы говорим: искусство познает, познание искусства, то можно задать себе вопрос: а как познает? Наука действительно познает, а искусство? Мы можем остановиться на таком явлении: как я уже говорил, если на стол ставится стакан — стол изменяется; и, с другой стороны, если шесть берез перед нами, то, только пересчитав их, наука узнала бы, что их шесть. Искусство имеет возможность охватить число шесть ритмически, одновременно и изобразить это. Например: шестерку можно взять пересчитав, а можно — ритмически: три двойки, две тройки, четыре и двойка. Может быть художественное музыкальное произведение, которое бы строилось на цифре два, а можно построить — на цифре три. Кажется, из таких маленьких частей состоят целые концерты. Еще я вспомнил, мы ставили модель на четверть часа или меньше, а потом снимали ее и рисовали по памяти. И случалось, что запомнишь, сосчитаешь — как идет рука, как голова, и это мешает; а когда не считаешь, не называешь никак, то удается нарисовать более или менее похоже. Получается, что название как бы заслоняет предмет от тебя. Что это такое? Это познание, но совсем другое, чем научное. По-видимому, наука аналитически познает, а искусство синтезом пользуется. И искусство показывает предмет как он есть, живой. Можно сказать, что мы имеем понятие ритмическое о произведении. Прежде всего, пластичное искусство делится на два рода: когда мы что-нибудь рисуем с натуры или когда компонуем сами. Когда мы рисуем с натуры пейзаж, портрет или натюрморт, мы встречаем сложность; а имея сложность, мы можем прийти к цельности. Пейзаж, и портрет, и натюрморт с натуры — мы в ней выискиваем цельность. Я уже говорил, что предметы влияют друг на друга. Это видно особенно в натюрморте, в котором все части зависят друг от друга; в группе вещи изменяют центр тяжести, перемещают свой вес, с тем, чтобы вместе все было цельно. Композиционное понимание всего в целом приводит к изображению, например, леса — не отдельного дерева, а всего леса. Так же можно изобразить беседу, диалог между, людьми. Тут вспоминается мысль Гете о том, что у дерева каждый лист хотел бы быть деревом, но цельность дерева мешает ему. Что это за цельность? Иначе сказать: не красота ли это? Мы изображаем правду, но правду не просто перечисление — что есть, а правду-красоту и правду-справедливость. Цельность — это понятие нравственное. Таким образом, мы ищем и выражаем в каком-нибудь пейзаже или портрете цельность или красоту этой вещи или пространства — сложность понимаем как цельное. Но есть и другой род искусства, когда мы сами строим всю сложность, которую потом, пронизанную композиционностью, доводим до цельности. Мне кажется, что... [Начало] 1964 года   1. Теория графики Шрифт, его типы и связь иллюстрации со шрифтом Кое-что о формальной стороне детской книги Образ в пространственном и словесном искусстве Об иллюстрации, о стиле и о мировоззрении О плакате. Лекция о рисунке О графике как об основе книжного искусства 2. О своей работе над книгой Как я работал над «Джангром» Как я иллюстрировал «Слово о полку Игореве» Квинтет Дмитрия Шостаковича О работе над гравюрами к «Маленьким трагедиям» Пушкина Об иллюстрациях к «Эгерии» О том, как я оформлял «Бориса Годунова» Пушкина О «Новогодней ночи» Как я оформлял «Рассказы о животных» Л.Толстого О Шекспире. К юбилею Лермонтова 1. Теория графики  его типы и связь иллюстрации со шрифтом 1 В изображении мы наталкиваемся на предмет и пространство и на отношения между ними, причем эти два понятия, если мы их развиваем в полной мере, исключают друг друга, и поэтому между ними всегда ведется борьба, в результате которой та либо другая сторона страдает. Если мы попытаемся выяснить, что такое предмет, то мы сразу встречаем несколько моментов, причем трудно сказать, какому из них будет по преимуществу принадлежать это наименование. Если предмет есть обособленность, замкнутость, воспринимаемая снаружи, то есть то, что формально определяется как объем, то существование пространства тем самым будет исключено. Но такой случай в чистом виде возможен только в скульптуре, а в изображении на плоскости он всегда будет неустойчив, так как плоскость, даже умозрительная, дает себя почувствовать, разве только она будет уничтожена иллюзорностью. Но, во всяком случае, если мы и имели замкнутый объем на плоскости или в скульптуре, то как только в первом случае его объемная ось, мысленная или фактическая, останавливает на себе наше особое внимание, она становится для нас зрительной осью, а следовательно, центром предмета; мы начинаем его воспринимать изнутри и должны будем считаться с предметом как с пространством. Так как ось его становится его пространственным центром, то на плоскости она приобретает значение центра и окружающего пространства; тем самым замкнутость предмета нарушается; его центр есть в то же время пространственный центр, и его окраины принадлежат как ему, так и боковым областям пространства. Центральность его в окружающем пространстве дает ему лицо, но обособленность его тем самым нарушается. Итак, мы видим, что объем легко нарушается тем, что мы входим внутрь и что в этом направлении предметная замкнутость, а тем самыми обособленность — неустойчива. Или, может быть, предметом с большим правом мы должны назвать вещи с выраженной функцией, то есть двигающиеся или стремящиеся к движению. Рассматривая их формально, мы увидим, что это будут незамкнутые конструкции, которые будут всегда предполагать нечто, вне их находящееся, нам формально недоступное. Иначе говоря, такие вещи будут как бы вытекать из самих себя через функцию в какую-то неизвестность, нами в данный момент не воспринимаемую. Если мы возьмем изображение на плоскости, то такое вытечение предмета будет одномерным; или, если функций несколько и они не приведены к одной сумме,— то сложной одномерностью. Но, во всяком случае, ясно, что такое изображение, примером которого будет профиль, не может считаться замкнутым; а также не может считаться и обособленным, так как его функция в одномерном образе, как путь его движения, выходит из него и уходит в бесконечность; следовательно, строго говоря, мы не имеем обособленность, так как всего, что принадлежит вещи, мы и не знаем — цель ее функции нам недоступна в едином восприятии. Итак, через функцию вещь связывается с одномерностью и тем самым теряет свою обособленность; но все-таки она есть некоторая твердая точка, откуда мы можем начинать и где возможно остановиться; но может случиться, что мы обратим больше внимания на путь функции, и тогда вещь вытечет совершенно, и мы получим беспредельность (пример — орнамент). Вещь, по-видимому, всегда будет иметь тенденцию растаять в одномерности. Можно ли назвать это приобщением ее к пространству? Во всяком случае — к одному измерению или, можно сказать, — к времени; так как, по-видимому, когда мы имеем лишь одно измерение, то оно [не] является ни первым, ни вторым, никаким определенно. Но если этот путь получает фактическое или мысленное изображение на какой-либо поверхности или плоскости, то можно сказать, что таким образом вещь или предмет приобщается к двухмерному пространству, в котором, правда, будет одномерная основа, будь то горизонталь или какое-либо другое направление. Таким образом, мы видим, что, так либо иначе, предмет в своем главном определении, как обособленное, теряет и в ту и в другую сторону и тогда, когда приобретает какое-либо внутреннее значение, и тогда, когда имеет тенденцию к выражению какой-либо функции. Примерным знаком функционального растворения предмета в изображении на плоскости будет стрела или указующая рука, словом, какой-либо сильно выраженный профиль. Знаком объемного изображения на плоскости можно взять круг, у которого уже есть ось, воспринимаемая нами как ось объемного вращения, как ось симметрии — форма, которую можно назвать фасной, причем, по-видимому, необходимо, чтобы симметрия чем-либо подтверждалась. Но если эта ось превращается в зрительную, становится зрительным центром, то контур приобретает значение боковых областей: получает справа и слева движение вперед на центр, как бы охватывая зрителя, углубляющегося в вертикаль центра; тогда мы получим круг с зрительной осью или, вернее, овал. Итак, мы имеем три примера изображения предмета на плоскости; их отношение к этой плоскости будет совершенно различно. В первом случае предмет будет связан с плоскостью через одномерность; отсюда получится то, что предмет не будет замкнут, а плоскость приобретает двигательный характер, который будет ближе к умозрительному и не так материален, как двухмерность осязательная. Во втором случае, если мы примем, что вертикаль есть ось объемная и тем самым ось симметрии, изображение создается вращением контура вокруг этой оси; отсюда получается то, что этот контур уже не утверждает плоскости и теряет с ней связь, а поэтому и характер ее не может быть сколько-нибудь материальным, а близок к умозрительному (но во втором случае мы имеем наиболее обособленное изображение предмета). Но если контур и нетвердо лежит на поверхности, то ось подобного изображения всецело принадлежит ей и поэтому, являясь остановкой, тем самым получает глубину, становится зрительной осью, зрительным центром предмета, а контур получает уже иное движение: он с обеих сторон двигается вперед и имеет тенденцию замкнуться на центр; но так как это пространственный центр, то есть наибольшая глубина всей плоскости, то контур в своем движении не отрывается от изобразительной плоскости, а увлекает и ее с собой. Тут мы имеем пример, когда предметная обособленность нарушается во имя пространственного движения, пространственного строя. Но может быть еще и четвертый случай, когда мы имеем только контур, и он, выделяя какой-то участок из изобразительной поверхности, этот участок характеризует как предмет, но о каком-либо внутреннем строе этого предмета не говорит. Тогда получается, что изображенный таким образом предмет во всем сроден всей плоскости, и так как замкнутый контур только как бы подгребает в свои границы немного больше осязательной материальности, то в результате мы получаем кусок осязательной двухмерности, которая прямо указывает на принадлежность этого островка к какому-то однородному с ним материку. Это особенно будет выразительно, если такой контур заполнен каким-либо тяжелым цветом, который может усилить осязательность. В данном случае предметной обособленности нет, но предмет не растворяется в активной одномерности, не преображается в пространство, а просто есть кусок, если можно так сказать, двухмерной протяженности, двухмерной материи. В данном случае восприятие стоит на границе зрительного и осязательного, когда глаз, становясь пассивным, есть как бы орган осязания, но еще не обладает осязательной активностью. 2 Все, что сказано, можно считать предисловием, но, извиняясь за его длину, я, тем не менее, считаю его необходимым. Букву, для поднятия нашей темы, мы должны рассмотреть с формальной стороны, и, как мы увидим, можно установить почти полную аналогию между типами букв и нашими четырьмя видами изображения. Ведь буква есть некоторый организм или, иначе назвать, предмет, который существует в пространстве листа или книги и имеет свои функции. Следовательно, как и во всяком изображении, мы можем здесь говорить о среднем случае, когда предмет наиболее обособлен, и о перерождении его в двух направлениях: в направлении пространства и глубины и в направлении одномерности или функции. Таким образом, можно установить четыре различных вида букв. Всякая буква, взятая равномерным тонким штрихом и выражающая сколько-нибудь профильность, будет характерна для первого случая. В ней будет сильно сказываться движение ее по строке, и она будет .таким образом как бы растворяться в функции, в одномерности строки; пределом такого вида шрифта будет рукописный, особенно если мы пишем карандашом. Связанность его, наклон и как бы орнаментальность есть уже изображение функции движения, в силу чего буква как обособленный организм терпит ущерб. Но в книге функция не остается неизображенной, а получает замкнутость, поэтому мы в результате будем иметь сложную замкнутую одномерность. Итак, к первому виду можно отнести всякую букву, более или менее профильную и тем самым прилежащую одномерности. Возьмем, например, букву В; если мы ее дуги изобразим более или менее вытянутыми, то тем самым придадим ей профильность, а в то же время ее штамб становится только частью ее контура, не отличающейся от других его частей. Но если мы ее дуги приблизим по форме к полукружиям, то они получат зависимость от штамба, который приобретает значение оси вращения, оси возможной симметрии, или объемной оси, и буква, приобретшая таким образом как бы позвоночный столб, тем самым становится наиболее предметной, а ее ветви, или дуги, тем самым получат вращение вокруг штамба, в результате чего и плоскость листа, как указано выше, несколько дематериализуется, будет отвлеченной, а строка, составленная из таких букв, не будет стремиться слиться в орнамент, а будет сохранять за буквой значение отдельного предмета, и движение будет идти от штамба к штамбу, то есть от остановки к остановке. Таким образом мы получим второй случай. Но представим себе, что штамб из объемной оси превратится в зрительную, в пространственный центр, что легко может случиться: раз мы имеем вертикаль, то имеем остановку, а раз остановку, то и глубину; поэтому-то вертикаль и есть наибольшее приближение одномерности к трехмерному. Особенно легко это произойдет тогда, когда штамб получит цветность, так как тем самым он приобретет элемент двухмерности, который будет способствовать образованию глубины. Это будет третий случай, когда буква-предмет преображается в пространство, но тем самым нарушится обособленность буквы: все штамбы будут действовать как целое, создавать вместе глубину листа. Но тут надо заметить, что если при профильной букве пространство листа будет всюду однородным и хотя бы в горизонтальном направлении соизмеримым, то же и с буквой объемной, и будет поэтому собственно безграничным или куском безграничного пространства, то буква пространственная даст всему столбцу [текста] свой пространственный строй, который так создаст столбец, что он будет неравномерен как в ширину, так и в высоту, так же и в глубину. Столбец, аналогично отдельной букве, получит глубину, которая будет значительнее в центре выше середины; мы у всего столбца будем иметь, таким образом, зрительную ось с наибольшей глубиной, к краям же столбца эта глубина будет постепенно уменьшаться и уменьшаться и на границе будет равна нулю. Это можно уяснить себе, если поставить на полях что-либо, имеющее глубину; на полях ничему подобному не будет места; допустим разве петит при столбце корпусом, но во всяком случае не основной шрифт. Итак, в столбце, сделанном пространственным шрифтом, мы имеем глубину: ось, где глубина наибольшая, уменьшение ее к краям и сход на нет; вот это место в столбце и будет рамкой в настоящем смысле слова, то есть границей, вне которой пространства и глубины нет, а уже дает себя знать бумага как бумага, то есть осязательно, без отвлечения от материала, не как изобразительная поверхность. Это третий случай. Четвертый мы имеем в букве, по типографской терминологии, древней жирной, усиленной до плакатного шрифта. Такая буква есть, собственно, цветной кусок двухмерной протяженности, ее перегруженность цветом и отсутствие пропорции не позволяют говорить про нее как про организм, она есть только кусок осязательно-цветовой поверхности, не более; но поэтому-то она очень сильно утверждает двухмерность всей страницы и придает ей осязательную материальность. Итак, мы можем установить четыре типа букв по их отношению к пространству листа. Это буквы одномерно-профильная, объемная, пространственная и двухмерно-цветовая. Им соответствуют и особые характеры страницы. В первом случае поверхность как бы образуется или, во всяком случае, простраивается горизонтальной одномерностью и тем самым становится двигательной и отвлеченной. Во втором случае она утверждается только штамбами букв, а ветвями как бы даже нарушается и поэтому приобретает еще более отвлеченный, почти умозрительный характер. В третьем случае вся страница получит зрительный центр: неравномерную, уменьшающуюся к краям, глубину и принципиальные границы, то есть будет замкнутым пространством. В четвертом случае осязательно-цветовая буква даст и странице характер осязательной двухмерности. 3 Итак, мы имеем четыре типа букв, но три из них создают пространство, по своим главным принципам сходственное. Это объемная, профильная и двухмерно-цветная буква. Конечно, у них есть различия, но, во всяком случае, первые две строят двигательное пространство, а третья — осязательное. Первая пользуется в сильной степени вертикалью как остановкой, но эта остановка есть, в сущности, задержка движения, так что она не нарушает общий для всех трех двухмерно-двигательный, всюду соизмеримый, варьирующийся между умозрительным и осязательным строй поверхности. Совсем иначе строится поверхность пространственной буквой. Как мы уже говорили, ей будут присущи глубина, центральность, несоизмеримость и ограниченность. Итак, наши четыре типа можно поделить на две группы: на двухмерную и на пространственно-глубинную. Из всего вышесказанного ясно, что буква определенного типа должна иметь свой тип пространства; и потому, если в книге будут разнотипные буквы, то возникает вопрос, каким образом они будут совместно существовать. Но, кроме того, в книге, помимо букв, мы имеем иллюстрацию в широком смысле, то есть концовки, антеты, чертежи, гравюры, фотомеханику — штриховую и фотографию; следовательно, книга вмещает в себя много разнохарактерного. Вся иллюстрация в широком смысле представляет из себя различные типы, которые в большинстве будут соответствовать рассмотренным нами типам букв. Орнамент будет соответствовать одномерной букве. Предметная иллюстрация будет сродни букве объемной. Чертеж придает поверхности двухмерность, и она приобретает умозрительный характер; иллюстрация пространственная, основанная на цвете и тоне, даст поверхности глубину, построит некий центр и создаст замкнутость; фотография нарушит поверхность как таковую, при помощи иллюзии уничтожит ее. Все это разнообразие иллюстраций плюс различные типы букв входит в книгу и должно там совместно существовать. Неправильно было бы думать, что достаточно механического соединения всего этого разнообразия; книга, естественно, должна стремиться к цельности, так как только тогда и возможно говорить о ее форме и только тогда есть возможность ее действительно воспринять. Цельность может быть достигнута тем, что как буквы, так и иллюстрация будут нами взяты однотипные; тогда естественно, само собою создастся объединение книжного материала; все, что в нее войдет, получит единое пространство. Таким образом, между шрифтом и иллюстрацией получится непосредственная связь. Как и относительно букв, так же и относительно иллюстраций все отдельные типы объединяются в более крупные группы; в них входит все близкое по пространственному строю. Тут можно установить три главные группы иллюстрации (разноцветной я в данном случае не касаюсь). Предметная иллюстрация, чертеж, орнамент, отчасти штриховое клише составят одну группу с пространством двухмерным, двигательным, соизмеримым и т. д. К ним будет близка иллюстрация пятном (черное и белое). Другую группу составит иллюстрация пространственная и, наконец, третью — иллюзорная, то есть фотографическая и линейно-перспективная. Мне кажется, что различие между иллюстрацией пространственной и иллюзорной само собой ясно. Перспективный чертеж и фотография возбуждают в нас беспредельное движение вглубь, быстро превращающееся в одномерное и не имеющее предела, в результате,— что для нас особенно важно, так как двигается в глубь листа не плоскость, а точка,— всякое представление о двухмерности теряется, а поверхность как таковая нарушена. В пространственной же иллюстрации глубина создается движением от нас по третьему измерению плоскости, и это движение, могущее иметь бесконечное число остановок, слоев пространства, следовательно, беспредельное, тем не менее всегда будет иметь предел, то есть заднюю плоскость. Итак, мы имеем три группы иллюстраций, из них первые две соответствуют двум группам букв. И то и другое, то есть и буквы, и иллюстрации, могут входить в книгу и там должны быть объединены. Объединение может происходить двумя путями: 1) когда все элементы, входящие в книгу, будут близкого пространства, тогда и связь будет непосредственная; каждый элемент будет придавать поверхности страницы некоторый местный колорит, так что пространство в целом, не меняя своих главных принципов, будет только варьировать некоторые локальные черты, 2) когда в книгу входят элементы, требующие разных пространств. Но ясно, что элементы, требующие разных пространств, не могут быть объединены таким образом, связи непосредственной между ними быть не может. В таком случае пространственные строи будут исключать друг друга, и поэтому объединение возможно только при помощи подчинения одного пространства другому или соподчинений нескольких (как мы увидим, это возможно при помощи рамы). Итак, связь как между буквами различных типов, так и иллюстрациями возможна либо непосредственная, либо посредственная. Мы их в таком порядке и рассмотрим, но раньше выясним вопрос о ложной связи, которую мы могли бы назвать декоративной. Если мы возьмем иллюстрацию перспективным чертежом, то как будто можно говорить, что она объединится с линейно-профильной буквой, точно так же иллюстрация черным и белым (белым — выражающая свет, а черным — тень) будет как будто согласовываться с осязательно-цветной буквой плакатного характера. Но и в том и в другом случае связь будет только внешняя, будет мешать нам воспринимать форму иллюстраций или букв по существу, а следовательно, будет ложной. В первом случае, подчиняясь пространству буквы, мы потеряем иллюзорность перспективного чертежа, построенного на ракурсе линий; если же мы воспримем эту иллюзорность и, следовательно, устремимся линейно и одномерно по третьему измерению к точке схода, мы потеряем понимание линейно-профильной буквы, исполняющей свою функцию на двухмерной, двигательной поверхности; следовательно, и так и сяк мы теряем формальный смысл и буквы, и иллюстрации, и только при пассивно зрительном отношении мы сможем установить связь между ними. То же самое с иллюстрацией, сделанной черным и белым. В ней, по формальному смыслу, белое будет первым, а черное вторым, тогда как в букве как раз наоборот, и поэтому только бессмысленное отношение к ним установит связь; а как только мы примем во внимание смысл, мы должны будем эту связь отринуть и признать ее несущественной. Таким образом, связь декоративная будет по существу ложной и должна быть отвергнута, как не считающаяся с формальным смыслом и буквы, и иллюстрации. Теперь нам надо выяснить связь непосредственную, то есть такую, когда формальный смысл или различных букв или иллюстраций идентичен или близок. Мы уже говорили, что все типы букв соединяются в две группы: в одну входят профильная, объемная и двухмерно-цветная, в другую — пространственная. Непосредственная связь, по-видимому, возможна в границах первой группы, связь же других типов с пространственной буквой возможна только посредственная, а непосредственная приводит к бессмыслице. Так, например, соединение древнего шрифта [или] плоскостно-цветовой плакатной буквы с пространственной приводит к тому, что, настроенные плакатной буквой в направлении осязательного качества цвета, мы того же требуем и от пространственной и, не находя требуемого нам в черном, обращаемся к белому фону в промежутках между буквами, который в пространственной букве действительно имеет характер осязательный. Но, таким образом, подход к букве выворачивается, восприятие становится на голову; и соседство плакатного шрифта делает существенным для нас не буквы, а промежутки между ними. Но и в пределах группы связь не безусловна; так, она легко возможна между профильной и двухмерно-цветовой и между профильной и объемной, но дело осложняется, когда мы объединяем двухмерно-цветовую с объемной. В первом случае мы объединяем пассивно осязательное с одномерно-двигательным, и тут дело будет только в ритме, во втором — мы в движение профильных букв вводим остановки при помощи объемных, следовательно, дело идет о том же. В первом мы имеем поверхность, варьирующуюся между осязательно-материальной и отвлеченно-двигательной, во втором мы на отвлеченно-двигательной имеем остановки, превращающие поверхность в умозрительную. Но в третьем мы должны объединить материально-осязательное с умозрительным, что, по-видимому, в непосредственном соседстве невозможно, а возможно только при помощи фактической или мысленной рамы. Чтобы кончить о непосредственном соединении букв, можно сказать, что с пространственной если уж может быть объединена какая-либо буква, то — объемная. Ведь пространственность есть следствие остановки, а объемная буква с ее осью тоже обусловливает остановку. Теперь, если говорить о непосредственной связи между иллюстрацией и буквой, то, может быть, простейшим случаем будет связь предметной иллюстрации с объемной буквой. Последняя является наиболее обособленной и предметной из всех типов букв и как бы есть прямой потомок древнего предметного письма; поэтому связь между ней и подобной иллюстрацией естественна. Даже в том случае, когда иллюстрация, как, например, в каталогах, исполнена светотенью (но без фона и поля), достаточно острой и выражающей объемность, пространство ее идентично с пространством предметной буквы — то и другое двигательное с уклоном в умозрительность. Останавливаться на положительных случаях непосредственной связи между иллюстрацией и буквой долго не стоит. Чертеж, орнамент, плоская иллюстрация черным пятном легко и естественно свяжутся с профильной и плакатной буквой, как эти последние между собой. Но зато, по-видимому, уже нельзя говорить о непосредственной связи с какой-либо буквой перспективного чертежа, фотографии или пространственной иллюстрации; две первые нарушают двухмерно-двигательный строй пространства, и потребуется рама, чтобы подчинить их пространству буквы, а последняя без рамы, мысленной или фактической, невозможна, так как сама уже является замкнутым пространственным целым. 4 Таким образом, мы подходим к главной части, а именно о подчинении друг другу различных пространств как букв, так и иллюстраций; подчинение это, а следовательно, и связь, возможно при помощи рамы; но для нас будет много яснее, если мы сперва познакомимся с тем, как мы воспринимаем бумажный лист. Это нам выяснит нагляднее смысл рамы и ее различные значения. В нас довольно твердо укрепилось представление, что бумажный лист имеет две стороны; то же самое и относительно толстого картона и даже доски. Это показывает, что мы его воспринимаем довольно отвлеченно, близко к математической поверхности. Но допустим, что мы взяли небольшой кусок толстого картона; строго говоря, мы имеем в нем не две стороны, а шесть, как у куба, и тогда его большие стороны уже не будут положительной и отрицательной стороной той же поверхности, а одной цельной поверхностью, обтекающей некую массу. Надо сказать, что подобное восприятие даже картона, а тем более листа, нарочито; но, во всяком случае, лист как некоторый слой массы, заключенный между двумя поверхностями, мы всегда воспринимаем, особенно, если он находится у нас в руках и мы его ощупываем. Подобное восприятие будет осязательным, и лист будет рассматриваться нами если не как объем, так как главные его стороны не будут иметь непосредственного перехода одна к другой, то, во всяком случае, как нечто близкое к объему. При этом мы, созерцая одну сторону, будем всегда помнить об обратной и весь лист воспринимать осязательно. Но на краях листа осязательный момент будет особенно остр, можно сказать неизбежен. (Тут для будущего важно заметить, что подобный подход к листу делает его в наших глазах предметом, как всякий объем.) Но если мы начнем писать на листе или графически изображать, то есть возьмем его уже как изобразительную поверхность, то картина меняется: мы забываем о той стороне; лист представляется для нас чистой двухмерностью, воспринимается нами отвлеченно и приобретает двигательный характер. Но можно ли воспринимать так весь лист? Только на расстоянии, а вблизи, когда мы его держим в руках, осязательное восприятие может отодвинуться к краям, но там уже оно, хотя бы и очень сжатое, не может исчезнуть и естественно напомнит нам о той стороне, об объемности и сделает опять-таки лист предметом. Лист как двигательная поверхность будет иметь осязательные поля, а внутри будет равномерен, соизмерим и двигателей. Но если мы временно хотя бы забудем о краях, отвлечемся от той стороны, о которой, кстати сказать, мы в середине двигательной поверхности и не мыслим,— мы успокаиваемся и воспринимаем поверхность статично, а следовательно, и зрительно цельно. Здесь уже при завоеванной двухмерности, которая стала элементарной и не требует движения для постоянного ее восстановления, мы можем воспринять третье измерение, то есть глубину. Это, конечно, возможно в силу отвлеченности от восприятия листа как объема, но в то же время есть не что иное, как пространственное проникновение в слой листа до отрицательной стороны. Словом, если мы при таких условиях будем иметь в середине листа черное пятно (или столбец текста, набранный пространственной буквой), то этот цвет, как статичный, получит глубину; мы как бы будем нажимать на него глазом, но неравномерно — в средине этот нажим будет сильнее, к краям он будет ослабевать; кроме того, этому движению, этой нашей активности будет сопротивляться белый цвет бумаги, и это сопротивление будет успешнее к краям, где понижается наша активность. Тут надо заметить, что необходима определенная форма черного пятна, которая не давала бы нам его как инертную массу, лежащую выше бумаги (пример: чернильная лужа, к этому также близка плакатная буква); а также не заставляла бы нас воспринимать пятно как дыру. Пятно должно показать, что оно лежит на белом, но быть в то же время четким и построенным, что создаст цветовую плоскость, достаточно отвлеченную от материала, чтобы иметь тенденцию двигаться вглубь. Штамб пространственной буквы как раз и обладает этими качествами. Итак, пятно или столбец шрифта будет нами воспринят по глубине неравномерно, у него возникнет центр наиболее глубокий, к краям же глубина, из-за сопротивления белого, будет ослабевать и на самых краях будет равна нулю. Следовательно, мы можем тогда мыслить переднюю плоскость цветового рельефа и заднюю, причем задняя, в данном случае белая, будет к краям идти на нас и, следовательно, будет близка к сферической поверхности. Но что мы найдем непосредственно за границей такого пятна, столбца или зрительно воспринятой середины листа? Найдем ли мы там осязательный подход, напоминающий нам о возможности перехода через борт страницы к обратной стороне, то есть лист как предмет, или, наоборот, чистую двухмерность, двигательную поверхность, совершенно отвлеченную от массы и от восприятия листа как объема? — По-видимому, последнее. Но при всем том опять-таки, если мы этот лист держим в руках, края его вернут нас к осязательному восприятию и дадут нам лист, который в центре есть трехмерное пространство, на полях — чистая двигательная двухмерность; дадут как объем, как вещь практического пространства. Итак, различные характеры восприятия расположатся поясами: в середине — глубина, на полях — отвлеченная двухмерность, на бортах — осязательность объема. Но интересная получится картина, если мы представим разрез этого листа, изобразив его толщину преувеличенной. Как мы уже говорили, центральное поле обладает глубиной, но она неравномерна и по краям сходит на нет; его облегает кругом двигательная поверхность, не помнящая об обратной стороне, и кончается все это осязательным восприятием края. Если мы пойдем из центра, то оказывается, что мы переживем перерождение трехмерности в чистую двухмерность и перерождение чистой двухмерности в объем, в вещь практического пространства. Но так же как край листа, воспринимаемый осязательно, делает отвлеченную поверхность предметом практического пространства, так и переход трехмерности в двухмерность, граница нулевой глубины, делает трехмерность предметом, вещью (в данном случае пятном) двухмерного пространства. 5 Мы обратились выше к рассматриванию природы листа для того, чтобы нам легче было подойти к природе рамы. Теперь мы можем приступить к выяснению возможности посредственной связи между различными типами букв и иллюстраций. Как уже говорилось, каждая буква и иллюстрация требуют различного пространства, и поэтому непосредственное соединение разнопространственных элементов невозможно; объединение в одно целое мыслимо только при установлении зависимости друг от друга различных пространств. Эта связь, это объединение различных пространств происходит при помощи рамы. Рама же по существу выполняет следующее: она, замыкая какое-либо пространство определенного строя и придавая ему характер и цельность, в то же время ставит это пространство в связь с окружающим пространством другого строя, делая первое вещью, предметом в последнем. При помощи рамы и устанавливается посредственная связь. То, что мы рассмотрели формальную природу бумажного листа, поможет нам, когда мы будем рассматривать различные случаи рамы. Итак, рама, прежде всего, может, замыкая трехмерное пространство, делать его вещью в пространстве двухмерного строя. Этот момент мы как раз наблюдаем, когда зрительная, центральная область листа переходит в двухмерность. Если мы имеем какую-либо иллюстрацию, строящуюся пространственно, имеющую центр и глубину, причем глубина строится цветом,— таковое изображение будет всегда замкнутым, к краям передняя и задняя поверхности рельефа будут сходиться, и на самом краю изображения глубина будет нулевой. Эта граница и будет рамой; она может быть мысленная, а может быть и линейная, но во всяком случае тут недостаточно иметь границу в смысле загородки, замыкающей изображение только двухмерно, необходимо, чтобы эта граница была краем испода всей иллюстрации и тем самым, несмотря на глубину последней, выгораживала бы изображение не только с боков, но и сзади. Тогда этот контур, эта рама, выгораживая таким образом глубину, будет в то же время сама по себе двухмерной и всю иллюстрацию будет давать наружу как двухмерность, как двухмерное пятно. Это позволит иллюстрации, хотя бы и трехмерной, существовать наряду с двухмерной буквой в одном общем пространстве. Это применимо также и к фотографии, которая обычно своей иллюзорностью уничтожает лист, делает в нем дыру, и, конечно, рамка как двухмерная загородка в данном случае тоже не поможет. Если мы хотя бы откажемся от обычной теперь прямоугольной рамы и закруглим ее углы — уже одно это положит все изображение на бумагу (кстати сказать, сама природа фотографии как пассивно зрительного момента, как изображения, основывающегося на зрительном пятне, требует более или менее закругленной рамы). Закругление углов будет мешать воспринимать раму как края дыры, но этого мало. В фотографии, особенно в овальном портрете, часто делали к краям разбег светотени, сходящий на нет. Это давало представление, что есть светотеневой слой, который, кроме того, имеет чечевичную форму, и борта этой чечевицы, принадлежащие как к передней, так и к задней поверхности светотеневого слоя, делали то, что иллюзорная по содержанию фотография, наружу сдерживаясь этой границей, воспринималась как двухмерное, как пятно. Так либо иначе, но мы, очевидно, можем не только трехмерную иллюстрацию, но и иллюзорную подчинять двухмерному пространству буквы. Но рама может иметь и другое значение: нам может понадобиться в иллюстрацию с глубиной или хотя бы объемную ввести букву двухмерного пространства или, наоборот, двухмерный чертеж соединить с объемной буквой. В первом случае примером может служить то, как поступает Дюрер, вводя в гравюру свои инициалы, которые сами по себе требуют двухмерного пространства. Он дает им это пространство и делает его в то же время в целом предметом, существующим на равной ноге с другими объемами, он пишет свои инициалы на дощечке и прислоняет ее к камню или вешает на дерево. Во втором случае мы должны объединить чертеж с объемной буквой. С объемной буквой легче всего объединяется предметная иллюстрация, чертеж же одномерен и непредметен. Если мы поместим чертеж на плоскость и этой плоскости дадим толщину, вся иллюстрация получит предметность и соединится с объемной буквой. В этих двух последних случаях мы поступаем аналогично краю листа— пользуемся осязательным моментом (хотя бы в изображении). Надо сказать, что во всех случаях подчинения одного пространства другому необходимо, конечно, преобладание последнего. Кроме всех этих случаев рамы, по существу связанных с замыкаемым [ею] пространством, мы, как уже говорили, встречаем раму в смысле загородки, не изменяющей внутреннего пространства (эта рама по большей части прямоугольная), и другую — в смысле конца листа как изобразительной поверхности, прорез ее насквозь. Такой смысл линейная рама получает на фотографии и на перспективном чертеже. Про случай с фотографией мы уже говорили, но иллюзорность перспективного чертежа не может быть побеждена тем же способом. Если мы должны соединить его с объемной буквой — может помочь картуш, имеющий толщину и тем самым придающий всему изображению предметность; но если нам необходимо соединить перспективную иллюстрацию с профильной буквой, которая отнюдь не предметна, приходится поступать иначе. Прямоугольная рамка перспективного чертежа стоит в прямой связи с принципом его построения и поэтому уже содержит в себе иллюзорность; но если мы эту рамку оторвем от содержания иллюстрации, сделаем, например, волнистой, то мы наружу всей иллюстрации придадим характер клубка одномерности и свяжем ее с профильной одномерной буквой. Вот типичные случаи рамы. Примеры, которые здесь приведены, отнюдь не должны рассматриваться как рецепты, а как иллюстрации принципа рамы вообще. На этом можно было бы остановиться, но мы рассмотрим еще случай, когда рама, фактически замыкая какую-либо область, не строит ее, а, наоборот, исключает ее из всего изобразительного пространства. Это получится, если мы окружим двигательное пространство — зрительным или практическое пространство — листом, осязательно воспринятым. В последнем случае мы просто будем иметь дыру в бумажном листе; в первом — это будет изобразительный момент исключения из главного пространства некоей области и отодвигание ее на второй план в нашем восприятии. Но на этом случае здесь не стоит долго останавливаться. Кончая эту статью, я просил бы считать ее некоторой попыткой разобраться в законах искусства книги. Во всяком случае, безусловно одно: что хотя жизнь вносит в книгу все более и более разнообразное содержание и все более и более разнообразные графические элементы, тем не менее объединение книжного материала не только возможно, но и есть насущнейшая потребность современности. В заключение приношу глубокую благодарность Георгию Александровичу Ечеистову за выразительные иллюстрации к этой статье. 25 сентября 1923 года 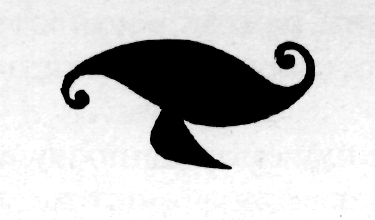  Кое-что о формальной стороне детской книги Начиная эту статью, я заранее должен предупредить, что не буду устанавливать каких-либо окончательных решений относительно детской книги, надеюсь, что мне удастся поставить некоторые вопросы, подходя к книге с формальной стороны. Ставить их мне придется как художнику, а не как педагогу или педологу.
Начнем с того, почему детская книга, книга для детей, рисунки для детей составляют вопрос, являются искомым при наличии развитого искусства взрослых. Казалось бы, что искусство взрослых могло бы быть и искусством для детей, но, по-видимому, уже где-то решено, что оно для детей не годится и детям необходимо дать что-то другое. Есть мнение, сравнивающее развитие ребячьего рисунка в его этапах с развитием искусства взрослых, это очень похоже на правду. Мы можем говорить, что наше искусство от моментов двигательного и осязательного восприятия мира дошло до гипертрофии зрительное: это мы видели в 19 веке, хотя бы в импрессионизме. Наши дети, по-видимому, тоже, насколько приходится наблюдать и вспомнить свои впечатления детства, проделывают тот же путь, они начинают с движения, с мускульного восприятия и к 10 годам, по-видимому, догоняют нас, становятся по преимуществу зрительными существами, иногда даже карикатурой на нас, придирающимися к каждому рисунку со словами: так не бывает, это непохоже и т. п. Что дает искусству взрослых развитие зрительности? Прежде всего возможность взять темой пространственное целое, пространство, в котором предметы становятся только сгустками пространства, только этапами его глубины. Но, с другой стороны, чрезмерная зрительность отвлекает человека от двигательных и осязательных моментов и дает ему мир как пассивно воспринимаемое зрительное пятно, причем взрослый человек, естественно, либо обращается к иллюзорности (фотографии), либо к чувственному переживанию материалов, цвета, атмосферы, фактур и т. д. Правда, наблюдается контрастное течение — искусства, стремящегося в сторону графичности, к абстрактной форме; искусства, близкого к словесному, несколько, может быть, умозрительного уклона. Словом, не будет слишком строгим назвать нашу художественную эпоху, употребляя термин Гаузенштейна, эпохой неорганической, дающей либо иллюзорность, либо чувственный натурализм, либо чрезмерную абстракцию. Уже одно то, что изображение на плоскости делится на графику и живопись, резко противополагаемые друг другу методы искусства, указывает на неорганичность ближайшей к нам эпохи. Отсюда можно говорить о том, что, по-видимому, не всегда, но сейчас искусство детское должно быть другим, чем искусство взрослых, хотя, может быть, и были эпохи, когда детское искусство и искусство взрослых не различались. Итак, перед нами стоит вопрос о детской книге и об искусстве для детей, причем надо сказать, что несмотря на неподходящесть искусства взрослых, конечно, художник, и именно художник, должен быть привлечен к этой работе.
Идем дальше и остановимся прежде всего на фактурной стороне книги, отвлекая ее от формы, от темы и т. п., будем говорить о линии, о тяжелых фактурах, фактурах гравюры и литографии, о фактурах цвета. По-видимому, взрослый человек научается управлять своими чувствами, и не являясь глухим к материалу, он тем не менее может легко брать форму, отвлекаясь от материала; не то ребенок, для него материал — момент осязательный, даже запах является очень важным; мы сами, по себе знаем, что многие воспоминания детства основываются прежде всего на запахе или осязании. Поэтому можно считать, что книга для взрослых по материалу может быть и ценной и никакой, а детская книга должна быть качественной в материале, должна быть праздничной и имеет право быть роскошной. Причем надо указать на то, что попытки сделать книгу из особо прочного материала, из какой-либо клеенкообразной бумаги или чего-либо подобного, делают ее, правда, качественной, но в то же время слишком тяжелой, слишком материальной. Помню из своего детства встречи с ватманом — впечатления самые симпатичные; может быть, только несколько жёсток, а во всем остальном — в фактуре, в возможности проникать в глубину слоя, он производил всегда очень приятное впечатление. Думаю, что также кремовый теплый цвет бумаги производит приятное впечатление, каждый из нас помнит загар на старых иллюстрированных книгах; теплота тона делает поверхность и качественной, и легко воспринимаемой, и не тяжелой по материалу, так как яркий белый уже является тяжелым фактурным цветом. Кажется, что решение для детской книги вопроса качества поверхности, как в бумаге, так и в изображении, можно найти посредине между тяжелой фактурностью и полной абстрактностью. Цвет, данный возможно нематериально, будет, может быть, лучше всего отвечать на запрос качественности и оформленности поверхности. Цвет сам по себе, который взрослое современное искусство часто не признает за форму, есть, по-видимому, наиболее композиционно данная, наиболее содержательная форма поверхности. Книжное искусство взрослых имеет в своем распоряжении изобразительные фактуры как чрезвычайно абстрактные — какова гравюра, так и чрезвычайно чувственные — каковы тяжелые графические и литографические фактуры как в черном, так и в цвете. Трудно сказать, как ребенок к ним относится, но одно ясно, что в абстрактном изображении он ищет тоже конкретного и, не находя нормальной характеристики материала, наделяет предметы качествами порядка необычайного, порядка кошмаров. Помню, при встрече в детстве с гравюрой металлической или деревянной в классической бесцветной манере, мне всегда казалось, что изображенные там люди — из особого странного материала и в силу каких-то условий пространства лишены цвета, что напоминало сновидения. Относительно тяжелых фактур думается, что особого различия в восприятии ребенка и взрослого нет, но одно только, что как новое ребенок их берет, но едва ли испытывает удовольствие от осязательной или зрительной тяжести цвета. Помню, что все транспарантные краски очень нравились в детстве, помню прямо-таки любовь к краплаку или [к] красным, залитым олифой, деревянным ложкам. Лессировочный цвет как качество поверхности является наименее тяжелым и в то же время наиболее содержательным и, по-видимому, наилучше решает задачу оформления поверхности. В этом смысле идеалом можно считать акварель — не дающую слоя, транспарантную и возможно яркую. Надо к тому же думать, что близкое нам по времени искусство своим высшим достижением может считать пространственность, но это достижение, по-видимому, детям младшего возраста недоступно, от пространственности-глубины страдает предметность и, по-видимому, лессировочный цвет есть как бы доступное детям переживание глубины. Вопрос о фактуре и цвете бумаги, а также о фактуре и цвете шрифта — вопрос чрезвычайно серьезный, ведь каждый из нас связывает свои воспоминания с той либо иной книгой, и если взрослый часто совершенно забывает об ее внешности, то ребенок, наоборот, все детали, вплоть до запаха, сохраняет в памяти. Следовательно, чрезвычайно существенно обставить приобретаемые ребенком мысли возможно большей качественностью восприятия. Весьма вероятно, что это существенно не только для детской книги, а и для учебника, учебник с цветной иллюстрацией, может быть, намного облегчил бы процесс обучения. Мне скажут, что я слишком роскошно подхожу к делу — говорю о ватмане, об акварели и цветной иллюстрации в учебниках; конечно, я не столь наивен, чтобы требовать это сейчас же,— говорю о том, к чему, по-моему, следует стремиться, а кажется, что в этой-то области хотелось бы пороскошествовать. Чтобы не быть превратно понятым, должен еще оговориться об акварельной фактуре, не думаю, чтобы сейчас была бы возможна раскраска книг акварелью, но считаю, что всякий способ печати может стремиться к тому, чтобы по возможности освобождаться от тяжести, массивности и тем самым приближаться к акварели. 3, О формальных типах книги и о детской книге Книга взрослых может формально делиться на два основных типа или, вернее, имеет две основные тенденции, одна другой противоположные, но в то же время в разной пропорции сочетающиеся в книге. Это зрительный и двигательный тип. Мы книгу читаем, следовательно, двигаемся по ней, и книга может помочь и формой буквы, и формой страницы, и всей своей структурой нашему движению, с одной стороны, возбуждая это движение, с другой — делая его ритмичным, давая цельную двигательную поверхность книги и т. д. С другой стороны, у нас есть потребность остановки, закрепления в каких-то важных для понимания книги местах, и на это отвечает как вертикаль буквы, так и вертикальная структура столбца, заглавная буква, рамки, титулы и, наконец, фронтиспис как суммирование всей книги в одном зрительном образе. Восточная книга строится в направлении первой тенденции, западная — второй, но, надо думать, что для взрослого человека приемлемее всего равновесное решение. Как же ребенок? Казалось бы, для него была бы более приемлемой двигательная книга. Но, по-видимому, это не совсем так. Поскольку ребенок ведь по большей части не читает, а если и читает, то это такой сложный процесс, что поступательное движение не имеет какого-либо важного значения, а поэтому какая-либо остановка в шрифте или столбце будет иметь чрезвычайно важное значение. Можно сказать, что ребенок не читает, а рассматривает и играет как буквами, так и изображениями, поэтому, например, связь одного разворота с другим, думается, для него в формальном отношении почти что не существует, поэтому даже рамки вокруг текста, которые взрослому были бы невыносимы, ребенком принимаются вполне спокойно. Что же следует из всего этого? По-видимому, двигательная книга восточного типа его бы удовлетворила. Но западная книга приемлема для него в форме, конечно, не фронтисписа, имеющего большую глубину, а в форме титула, украшенного титула, возможно приближающего букву к иллюстрации, рассматривающего то и другое предметно, не имеющего большой глубины, но в то же время наделенного в большой мере цветом. Словом, можно сказать, что двигательная книга в целом неприемлема (если, конечно, это не свиток), зрительная также, но двигательно построенная страница или разворот, рассматриваемый до известной степени как отдельная таблица, обрамленная какой-либо рамкой, будут, по-видимому, более всего отвечать на детское требование, будут всего более подходящими для рассматривания книги. Дело меняется отчасти тогда, когда ребенок уже читает, но и тогда страница для него заслоняет книгу. Из вышесказанного следует также и то, что в детской книге более, чем в книге взрослых, разворот может рассматриваться как целое и считаться цельным полем действия. Здесь правильно было бы указать и на то, что величина книги, формат имеют очень большое значение. Во всяком случае большие размеры листа на детей производят очень сильное впечатление, как и толщина книги, переворачивание страницы — это целое событие, и можно затем уже сосредоточиться в рассматривании. В смысле пропорции можно определенно говорить о довольно широком, но в то же время не горизонтальном (альбомном) формате, формат может быть немного уже квадрата. Альбомный формат, как будто заменяющий формально свиток, должен был бы отвечать детским требованиям, но на самом деле альбомный формат, отвечающий всегда пейзажным композициям, уже как бы заключает в себе даль, бесконечный полет за пределы изображения, что, в сущности, не может отвечать детским требованиям. 4. Шрифт Относительно шрифта придется говорить немного, но думаю, что, читают ли дети или нет, они очень предметно относятся к букве, поэтому упрощать букву, лишать ее каких-либо признаков пяток, различия в толщинах штамба и веток совершенно неправильно. Причем, насколько помню, очень нравились буквы с жирным черным штамбом, дающие теплоту всей странице и в то же время характеризованные каждая возможно индивидуально. Классический шрифт с цветовой пропорцией академического шрифта ребенку будет всегда казаться лишенным цвета и тем самым лишенным индивидуальности. Ведь буква когда-то была изображением предмета, и хотелось бы как раз в детской книге поставить ее наряду с предметом, возможно приблизить ее к предмету, в то же время, конечно, не лишая ее графической абстрактности, в этом смысле интересным материалом для таких опытов могут быть заглавные буквы. Причем, насколько помню, все приключения заглавных букв в какой-либо книге — то, что они попадали то на скалу, то на стену дома или в окно и т. д., — никогда не производили отталкивающего впечатления, если буква была дана графически в черном и белом, причем достаточно цветно; наоборот, объемно, с толщиной данные буквы, с тенью и светом производили всегда неприятное впечатление. Думается, что буква графическая черная, взятая цветно, для ребенка гораздо конкретнее всякой изображенной объемно буквы (надо думать, что светотень приемлема вообще только при сильной раскраске). Черное в иллюстрации, по-видимому, детьми встречается не очень одобрительно, но в букве черное берется как присущий ей цвет, против него не только не возражают, но он, ярко выраженный, дает ей определенную конкретность. Следовательно, казалось бы, что в детской книге шрифту можно и должно позволить не столько заботиться о ровном поле столбца и текучести строки, сколько о характеристике каждой буквы, причем в характеристике должен участвовать черный цвет. Помню, мне очень нравились в детстве цифры на отрывном календаре, но, думаю, что плакатный шрифт очень цветной, но совершенно ровный не произвел бы такого же впечатления. По-видимому, цветовая пространственность шрифта действует на ребенка увлекательно. 5. Об иллюстрации Совершенно ясно, что иллюстрация является самой существенной частью детской книги, без нее она немыслима и, может быть, мы даже не должны называть изобразительный материал книги иллюстрацией, так как часто изображение бывает в книге и без текста или с очень небольшим сопутствующим текстом. Можно говорить о некотором делении иллюстраций или вообще изображения на плоскости на типы, и основанием деления можно принять отношение предмета к пространству. Причем, по-видимому, можно утверждать, что когда пространство снижается до понятия пустоты, не имеющей никакого строя, то предмет получает наибольшую внешнюю характеристику и все его внешние функции, как то движение, вполне возможны и ничем не стеснены; тогда же, когда пространство дано как целое замкнутое и имеющее центр с наибольшей глубиной и с боковыми областями, имеющими подчиненное значение, тогда, в силу несоизмеримости такого пространства, в силу определенных течений, находящихся в этом пространственном мире, предмет должен либо стать центром этого мира, либо терпит ущерб в своих функциях, терпит ущерб в своей активности. Зато, будучи центром, герой может располагать не только непосредственным жестом, но и взглядом, и даже его мысли и настроение влияют на весь пейзаж. Следовательно, различные отношения предмета к пространству будут давать различный стиль изображению. Мы, например, можем взять предметы совершенно обнаженные от какого-либо пространства и поставить их на одну ногу с буквами, то, что мы можем видеть в арабесках, в украшенных титулах и т. п. Вообще возможное освобождение предмета от пространства в скульптуре, хотя бы в игрушках, позволяет ребенку свободнее играть в нее, ставить ее в различные положения и навязывать ей различные действия. Думаю, что и с предметной иллюстрацией возможно отчасти то же самое (помню, как дети играли в зверинец с книжной гармоникой), во всяком случае, если дается некоторый рассказ возможно предметно и без фона, без пространства, то это делает все движения, все жесты фигур особливо четкими и свободными. Такое изображение обращает прежде всего внимание на контур и несколько отвлекает внимание от индивидуальности действующих лиц, беря их как типы. Думается, что это приемлемо для детей. Вообще портреты, насколько я помню, портреты героев не интересуют ребят. Отсюда мы можем идти в сторону более развитого пространства, тут будет очень много разновидностей, но пределом будет пространство с глубиной, построенное по центру, заключенное в раму, и т. д. Думается, последнее для ребенка недоступно, и поэтому, все усложняя пространственные признаки, мы поступим правильно, если остановимся на таком типе изображения, где предмет еще целен и не нарушен, пространство же по возможности развито. В этих пределах возможна детская иллюстрация. Думаю, что разрезание предмета рамой, введение недейственного предмета [и], с другой стороны, введение настроения, пейзажных композиций с далью и т. п. не должны иметь, места в детской книге. Следовательно, сохранение предмета есть одно из главных условий детской иллюстрации. Здесь необходимо относительно вышеизложенного оговориться. Предмет, наиболее освобожденный от пространства, наиболее самостоятельный, может нам дать изображение объемное, изображение, пользующееся отвлеченной светотенью. По-видимому, насколько приходится вспоминать свои детские впечатления и наблюдать детей, такой метод изображения для них совершенно чужд, так как лишает предмет цветности и отчасти как бы уничтожает изобразительную поверхность, делая ее очень абстрактной, почти умозрительной. Возможна борьба с подобным объемным изображением, борьба при помощи яркой цветовой раскраски, что мы часто наблюдаем в старых книгах. Тем самым мы придаем предмету цветовой профиль, кладем его на поверхность и приобщаем его к пространству поверхности листа. Очевидно, цветовая качественность поверхности предметов в иллюстрации для детей обязательна, но тем самым мы, приобщая предмет листу, особенно если это профиль, приобщаем его какому-то пространству. То, что это для ребенка приемлемо, это едва ли вызывает сомнение, так как он, несомненно, конкретно воспринимает самую поверхность листа, но интересно, что мы опять пришли к некоторой пространственности. |
