Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
А как связывается живописный этюд с композицией, с масляной станковой картиной? На юбилейной выставке мне бросилось в глаза, что ведь станковые картины задумываются как драматические произведения, а живопись сама, живописная манера,— лирическая. В редких случаях живописная манера соответствует теме. Левитан, Коровин — это пусть, хорошо, но это лирика. А их влияние или даже просто какой-то постимпрессионизм всюду встречается как живописная манера. Нет того, чтобы по-новому, драматически поняв натуру, подойти к ней и найти в этом основы для живописного языка картины. Конечно, и с рисунком, и с этюдом не всюду так, есть художники, у которых отношение к натуре художественно активно и питает их композиции, но в большинстве рисунок и этюд не помогают картине и не могут помочь решению композиции. Теперь, если взглянуть с другой стороны — влияет ли станковая картина на монументальное искусство, на декоративное искусство. Здесь, за исключением редких случаев, мы встретим полную отчужденность. А должно ли быть так? — едва ли. И может быть, от этого в монументальной живописи мы встречаем упрощенный плоский подход, решение пятном, некоторую аппликационность [...] 14 октября 1958 года 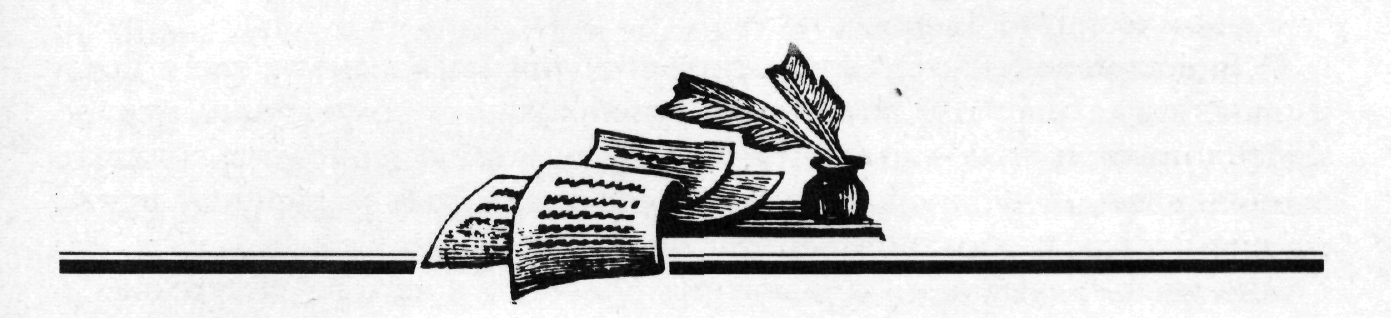 О художественной правдивости и о художественной честности В изобразительном искусстве один из самых ценных моментов — это художественная правдивость. Но, конечно, правдивость, или, вернее, художественная правда родится при встрече художника с природой, от удивления перед этой природой, от пристрастия к ней, при цельном смотрении натуры, когда раскрываются и музыка зрения, и живая цельность, и стройность натуры. Причем очень важны честность, художественная честность и в то же время смелость понимания натуры, смелость ее видения. И это так увлекательно, так восхищает художника и делает его убежденным в том, что он обладает правдой, что в большинстве случаев художник, увидевший в природе даже лирическую цельность природы, состояние, атмосферу, погоду, так поражен этим, так увлечен и так уверен в правдивости своей, что часто навек остается при этом и больше ему ничего не надо. Ничто его не может оторвать от созерцания правды. А в сущности, он мог бы идти дальше в видении художественной правды, поняв природу как сложную цельность уже не лирически, а драматически. Но по большей части лирик, понявший первоначальную природу, уже не хочет от нее уйти, эта правда кажется ему самой честной, самой правдивой. Она проще и потому искание ее не чревато большими опасностями — стать неправдивым, нарочитым, отвлеченным, надуманным (сколько возможных грехов у художника!). 9 декабря 1958 года 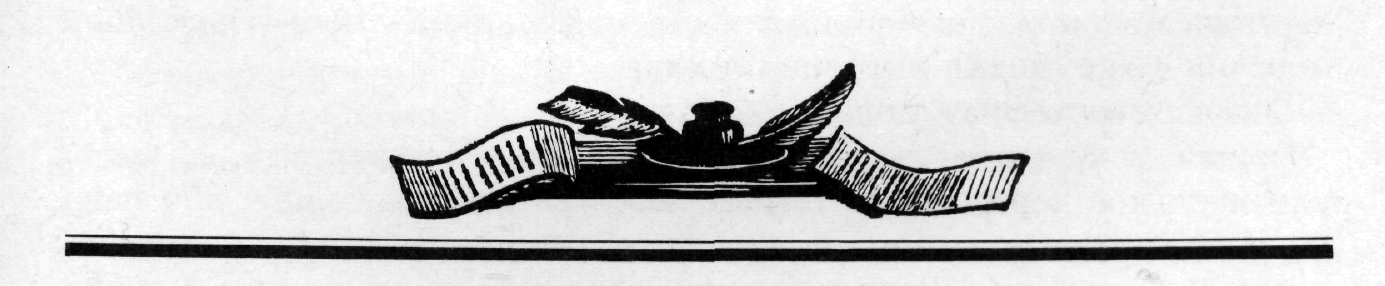 О древнерусском искусстве Я очень люблю древнее наше искусство, стараюсь понять его и всегда удивляюсь, с одной стороны, его плоскостности, с другой — его пространственности. Оно никогда не может, по-моему, [быть] названо примитивным искусством, примитивным, как, например, романское искусство. Будучи греческого происхождения, оно всегда сложно и диалектично. Подражать ему нельзя, но сколько-то учитывать его принципы и испытывать его влияние, по-видимому, можно. И мне кажется, что я более всего приближаюсь к нему, к его принципам, когда рисую с натуры или изображаю в композиции ракурс, фигуру в ракурсе. И, по-моему, это как раз характерно, что когда занят ракурсом, глубиной, и возникают плоскостные тенденции, приводящие иногда к обратной перспективе. В этом и сказывается диалектика древнего русского искусства. 6 января 1959 года 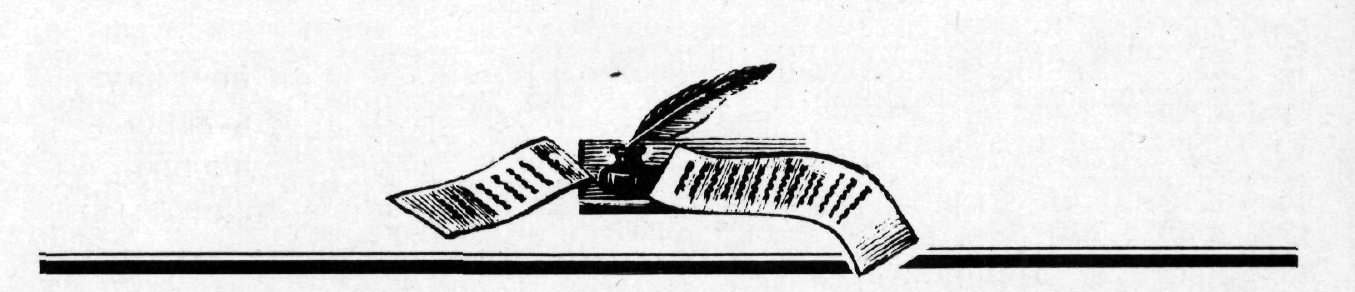 То, что нужно сказать в телевизоре об искусстве для ребят Искусство существует не отдельно от жизни. Вся наша жизнь связана с искусством, и в нашей повседневной жизни зарождается искусство. Как это происходит? Любовь к природе. Любовь к нашему родному городу. Любовь к людям — вот откуда происходит искусство. Наша природа для людей из других стран может показаться очень скромной, неяркой, но когда мы что-то любим, то нам открывается внутренний характер этой вещи. Мы видим ее красоту. И это касается всего нам родного. Например, наши деревья, окружающие нас. Хотя бы береза. Она по-нашему стройна, в ней есть что-то женское с ее тонким стволом, с ее развесистой кроной, с висящими гирлянда-ми ее веток — не то это косы, не то это платье. А кора! Нам кажется, что нигде на свете нет такого красивого дерева, с такой чудной корой. А дуб! Особенно когда он вырос на поляне и ему не мешали другие деревья. Какой он могучий и мужественный, какой у него ствол, какие могучие ветки, какая вырезная листва. Он напоминает нам древних богатырей. А елка, если взглянуть повнимательнее, то откроется, что она очень удивительное дерево. Она устремляется вверх, как башня, как пагода, со своими этажами веток, узор но рисуясь на небе, и в то же время у нее есть широкие мохнатые лапы, образующие внизу дом и протягивающиеся к нам, точно руки, здоровающиеся с нами. (Недаром елку украшают на Новый год.) Так же и другие деревья. А наши реки? Их тоже можно очень полюбить, и в то же время они все такие разные и имеют свою физиономию — и Ока, и Волга, и Москва, и Клязьма и много других рек. Если вас увлекает что-либо, то нетрудно понять то глубокое содержание, которое лежит в этой вещи. Например, дорога, простая шоссейная дорога. Как красиво она легла по холмам меж лесов и полей, она иногда извивается и иногда ляжет прямо до самого горизонта, и кажется, какой могучий человек ее сделал. Она вас зовет идти по ней, ехать по ней, увидать города и села, леса и реки, весь мир. Нужно, чтобы вещи увлекали нас, и тогда мы видим их красоту. Мы видим красоту животных, птиц. Мы видим красоту автомобиля, паровоза, парохода, аэроплана. Как я говорю, если мы кого-либо любим, то открывается внутренняя жизнь этого человека, и мы видим его красоту. Например, наши мамы. Для других они кажутся, может быть, очень скромными, а для каждого из вас его мать, наверное, кажется красавицей. (Я это знаю по себе.) Любовь к окружающему порождает не только искусство, но и науку. Искусство рождается тогда, когда человек любит делать вещи и в этих вещах передавать свою любовь к родной природе и людям. Вы видели столяра за работой, какой чудесный у него инструмент, какое красивое дерево, какие стружки,— можно увлечься таким делом. А в старину всякое ремесло называлось художеством, а столяр - художником. И это правильно: делающий нужные и красивые вещи — тоже художник, делающий дома, мебель, автомобили, корабли, одежду, материю, платья и т. д. Но вот художники, как мы, их обыкновенно называли живописцы, скульпторы, графики. Им должна быть свойственна любовь к природе и к людям, но, кроме того, им свойственна любовь к материалу. Материал у искусства очень разнообразный: бумаги, карандаши, краска разная, дерево, мрамор, гранит, медь и т. д. Художник, когда стремится передать свою любовь к какому-либо предмету или к какому-либо человеку, не должен просто сделать вторую березу или вторую лошадь или повторить буквально какого-либо человека. Он при помощи материала передает в скульптуре или в живописи ту красоту, какую он увидел в природе, в людях, в вещах. И материал помогает ему в этом. Так, например, наш скульптор Коненков одно делает в дереве, а другое — в мраморе. Он использует свойства дерева, его ствол, корни для лесовичков — в одном случае, и мрамор белый, прозрачный — для изображения девушек и женщин. А скульптор Голубкина любит глину. Глина чувствует самое легкое прикосновение, и Голубкина при помощи глины передает самые тонкие черты лица человека. И у нас много художников, и они пользуются разным материалом и изображают разное — то, что особенно любят. Я вам сказал, что искусство рождается из любви, но есть искусство, как будто рождающееся из ненависти. Но это тогда, когда мы что-либо любим, например мир, а есть люди, которые мешают миру и хотят войны, и мы их из-за любви к миру ненавидим и так изображаем. 30 сентября 1959 года 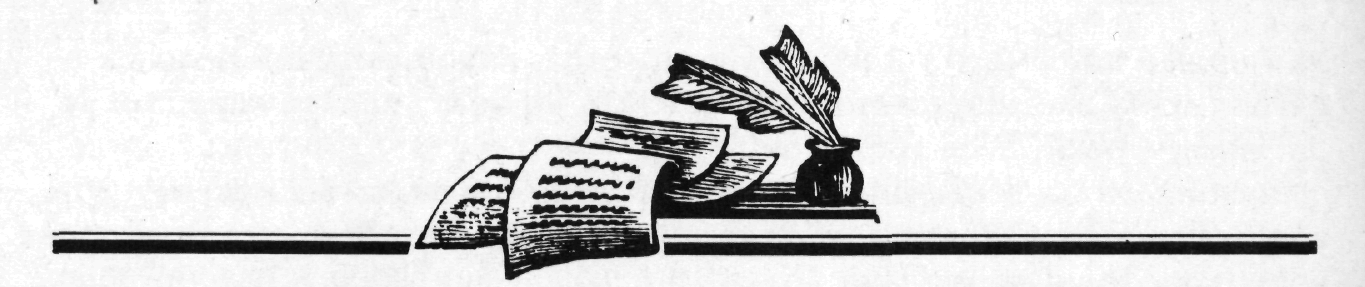 По поводу абстрактного искусства Хочется кое-что записать. Пришло в голову кое-что по поводу абстрактного искусства. Чем оно плохо? Можно сказать так: все старое хорошее искусство и многие произведения современные, в сущности, соединяют в изображении абстрактное и конкретное. Когда любуешься каким-либо произведением Рембрандта, Микеланджело, Джотто или Мазаччо или древними греками, все время видишь, как абстрактное превращается в конкретное и конкретное имеет в основе абстрактное. Получается как бы борьба этих двух моментов, и этот момент самый интересный в искусстве. А искусство только абстрактное или только конкретное (то есть натурализм) лишено этой сложности, этой сложной диалектики, этой борьбы, и поэтому абстрактное искусство не является полноценным искусством. Это мне кажется правильной критикой абстрактного искусства, но такая критика сейчас же направляет палец на наше так называемое конкретное искусство и требует также его проверки. 21 марта 1960 года 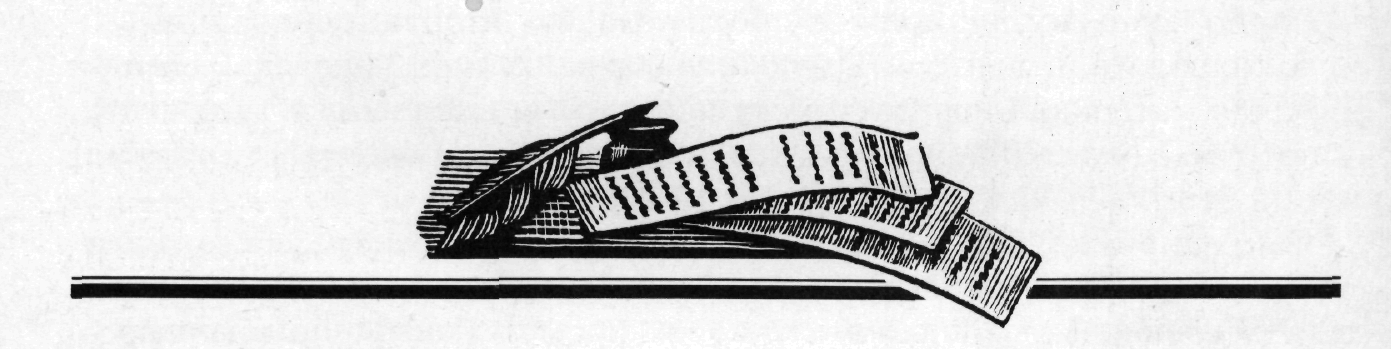 По поводу «абстрактивизма в искусстве» Мне пришлось присутствовать при горячем споре в [19]19 году и начале двадцатых годов супрематистов с АХРРом. Одни говорили, что человека не надо изображать, его достаточно изображает фотография и темой изобразительного искусства должна быть отвлеченная форма, да, кроме того, человека уже старое искусство достаточно изображало; другие говорили, что стоит изображать только человека, а отвлеченную форму — ни в коем случае. Теперь середина двадцатого века, и мы присутствуем при большом засилии на Западе абстрактного искусства, тоже утверждающего свой приоритет и свою единственность для современности. Абстрактивизм не только бытует на Западе, но и отрицает начисто искусство изобразительное, считает его устаревшим. (Правда, если сравнить сегодняшний абстрактивизм с тогдашним супрематизмом, то между ними будет, конечно, различие, но тенденция к единственности та же.) Еще в 20-х годах во время спора АХРРа с супрематистами мне пришлось встретиться с материалами, касающимися иконоборчества. Это были «Слова», обращенные к иконоборцам и пытавшиеся их разубедить. Одно из них меня заинтересовало. Автор задает вопрос иконоборцам: «Вы Спасову образу не поклоняетесь, а кресту поклоняетесь?»; те отвечают, что кресту поклоняются. «Что же вы поклоняетесь кресту,— говорит автор,— ведь крест — это орудие позорной казни, чего же ему поклоняться?» И потом доказывает, что кресту можно поклоняться потому, что человеческий образ освятил его, и тогда, если поклоняться кресту, то поклоняться должно и Спасову образу, а если Спасову образу не поклоняться, то и кресту не должны поклоняться, — говорит автор. Мне кажется интересно. Вот как в древности аргументировали против тогдашнего абстрактивизма. Чтобы помочь разобраться в вопросе об абстрактивизме, позвольте мне использовать мысль, на этот раз мысль Гете. В одном месте своих записок он приводит шесть видов, как он называет, «неполноценных искусств», по три в каждой группе, причем группы противоположны и противостоят друг другу, а при слиянии этих неполноценных видов искусства мы получаем полноценное искусство. Это выглядит так: с одной стороны — копирование натуры, с другой — фантазия; с одной стороны — характер, с другой — ундулизм, то есть волнообразие, ритмичность; с одной стороны — тщательное механическое выполнение, с другой — скицизм, можно сказать, эскизность, набросочность. Таким образом, мы имеем неполноценные виды искусства, но если они сочетаются вместе как противоположности, противоречащие друг другу, то мы получаем полноценные виды искусств. Так копирование натуры и фантазия, сочетаясь, овладевают художественной правдой; так характер, сочетаясь с ундулизмом, создает красоту; и, наконец, механическое, детальное выполнение, сочетаясь с набросочностью, создают совершенство выполнения. Что ценно в этой гетевской схеме? Прежде всего [мысль], что искусство сложно, и не только сложно, но содержит в себе противоположности, и возможно, что в тех противоречивых видах неполноценных искусств мы найдем и элементы абстрактивизма. Так, как сейчас бытует абстрактивизм, он иногда начинает казаться просто игрой, но если его тенденции понять как отвлеченные моменты искусства, то они, может быть, существуя отдельно, и являются неполноценным видом искусства, но в то же время в больших, сложных художественных произведениях мы найдем отвлеченные моменты, входящие в них. Мне хочется остановиться еще на одном вопросе. Мы наблюдаем, как Гете понимает сложность и противоречивость художественного произведения. Но можно еще иначе анализировать произведение пластического искусства. В каждой статуе или картине, в сосуде, в архитектурном здании мы можем наблюдать две стороны, слитые, проникающие друг друга, но в то же время различимые в произведении. Это особенно ясно на памятнике. Прежде всего это образ какого-либо человека и в то же время это памятник. Ведь не Пушкин или Горький сопоставляются с трамваями, с домами и т. д., а памятник, то есть какая-то отвлеченная форма, имеющая скорее архитектурный характер; можно сказать, тут конкретное и абстрактное проникают друг друга, влияют друг на друга, формируют их. В произведении, с одной стороны, образность, с другой — вещность, причем вещность вовсе не ограничивается ролью пьедестала, а проникает и образный момент памятника, и наоборот. Есть произведения, напр[имер], архитектурные или керамика, где вещность сильнее выражена, но и там образное начало проникает все произведение; в архитектуре, напр[имер], пропорции окна, двери, пропорции других деталей говорят о человеке, о конкретном начале. В керамике тоже уже самые пропорции говорят об образности, а при наличии изображения, органически слитого с формой, образность вещи усиливается. Вещность художественного произведения как будто не наблюдается в картине, но это не так. Всякая картина — вещь уже потому, что она на плоскости. Правда, когда в картине уничтожается изобразительная плоскость, она — не вещь, она имеет только образную сторону. В иконе, напр[имер], вещность очень ярко выражена, в картине это не всегда; но хорошо ли это, ведь она должна существовать в каком-то пространстве. Итак, во всяком художественном произведении мы можем обнаружить конкретное начало и отвлеченное начало. Если мы разнимем эту двоякость произведения, то не получим ли мы то, что Гете называет неполноценным искусством: в одном случае только образное, в другом — отвлеченное, конкретное и абстрактное отдельно. Ведь образное, лишаясь вещности, становится чисто иллюзорным воспроизведением натуры, не учитывающим условия материала, а вещность, лишенная образности, полностью предоставлена фантазии, произволу моды. Это мое главное возражение против абстрактного, а также и конкретного, отдельно существующих в искусстве. По-моему, произведение, в котором отвлеченная форма на твоих глазах становится конкретной, действительно интересное и настоящее искусство, здесь конкретное родит отвлеченную пластическую идею, которая живет веками. Но я слышу возражение со стороны абстрактивизма, что только старое отвлеченное искусство занималось действительно отвлеченными формами, а, дескать, современный абстрактивизм при помощи пятен, линии и цвета передает будто бы тонкие чувства, которые иначе передать нельзя. К сожалению, наше искусствоведение не разработало многие понятия достаточно четко, и поэтому трудно возражать в данном случае, но мне все-таки кажется, что мы можем современный абстрактивизм обвинить в натурализме. Нам знаком конкретный натурализм, где преподносятся зрительно не формы, порожденные чувством и мыслями, а ощущения, может быть, чувствования неопределенные, ни к чему не обязывающие, развивающие ассоциативные мечтания. Но мне думается, что рядом с конкретным натурализмом существует абстрактный натурализм, рядом с внешним существует внутренний. И абстрактивизм современный, мне думается, можно обвинить в натурализме. Тут интересно вспомнить тоже мысль Гете. Он говорит, что натурализм заразителен и легко воспринимается, так как ни к чему не обязывает, а реализм говорит о законе, и вы хотите возражать, затем видите, что против закона возражать нельзя, и подчиняетесь. Иногда вам кажется, что какая-нибудь абстрактная вещь красива, но мне думается, что это красивость, а не красота; для красоты у абстрактного искусства не хватает конкретного «характера». Между прочим, мне кажется, что необходимо немного остановиться на станковой изобразительной поверхности. Она родилась от картины, от иконы; на ней был рассказан какой-нибудь сюжет. Потом она стала поверхностью для экспериментаторства как опытная изобразительная поверхность. На ней учились натуре и открывали законы зрительного искусства. И это было вполне правильно. Но затем на ней стали делать конструктивные опыты с рельефом и как бы архитектурные тоже; все то, что надо бы делать в жизни, но так как это было невозможно, [то] осуществлялось на станковой плоскости, и так же ее использовал абстрактивизм. Теперь, правда, по слухам, на Западе уже появились абстрактные фильмы. Теперь меня интересует вид абстрактного искусства, который использует плоскости, геометрические формы, квадраты, круги и т. п., не вводит ли таким образом это искусство конкретный элемент в свое изображение? Как бы «абстрактное» в кавычках искусство, обусловленное местом, хотя бы в архитектуре, характером интерьера, приобретает свою конкретность и становится полноценным искусством. Ведь геометрические формы в сущности — человеческие формы, проникнутые человеческими масштабами и системой измерений. Кончить это длинное рассуждение можно, отметив, что в нашей жизни, в нашем быту много живет полуискусств. Напр[имер], один собирает камни разных, тонких оттенков на берегу Крыма, другой собирает разные выразительные сучки и коряги и находит в них изображение кого-то, какого-то зверя или человека, третий занимается фотографией или фотомонтажом или делает на заказ наглядные пособия, и в них рассказывает исторические или бытовые события, наконец, кто-то может заниматься абстрактивизмом и т. д. и т. д. И вряд ли кто-либо будет возражать против такого препровождения времени. Эти занятия, разные по характеру — одни серьезные, другие легкомысленные, будут, мне кажется, все допустимы. Но если какое-либо из них заявит, что только оно есть полноценное и единственное истинное искусство, то это уже всячески опасно, и против этого нужно возражать как против упрощенчества, замены чего-то подлинного суррогатом. 19 июня 1961 года 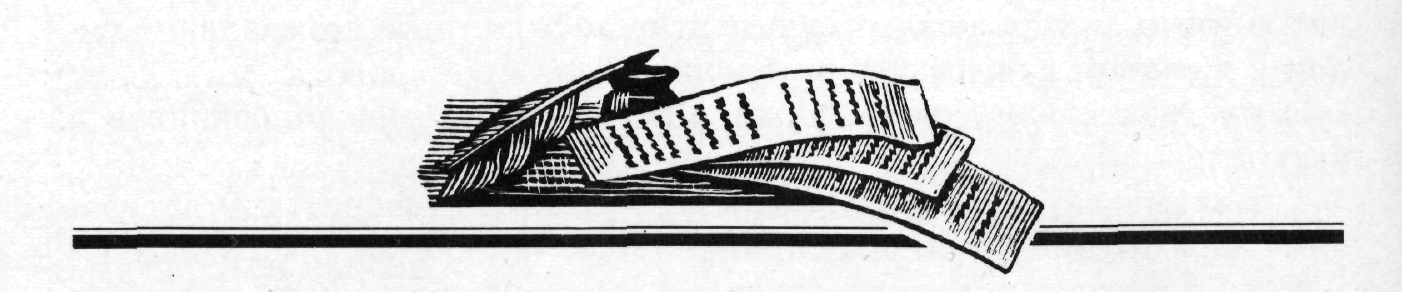 Что я хотел высказать на конференции Союза художников по искусствоведению Мне думается, что самое вредное изречение, независимо от того, что оно истинно, это утверждение, что содержание слито с формой и что разъять их нельзя и отдельно говорить о форме и содержании тоже нельзя. Все это правильно относительно произведений высокого качества, таких [мастеров], как Рембрандт, как Микеланджело. А при безответственном распространении этой формулы на все живущее искусство она ведет к лицемерию, так как мы таким образом отказываем себе в праве об этом вопросе разговаривать. |
