Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции
 Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.
|
|
Между прочим, часто сравнивают наше искусство с литературой. А почему не сравнить его с музыкой? Есть слух вообще, а есть слух музыкальный, есть зрение вообще, а есть зрение художественное. И зрение может быть объектом искусства. И если мы таким образом вводим в искусство субъект с его законами зрительного восприятия, то это вовсе не субъективизм. Мне бы очень хотелось, чтобы на съезде пассивное изображение натуры, бесконфликтное копирование было осуждено. 14 февраля 1957 года 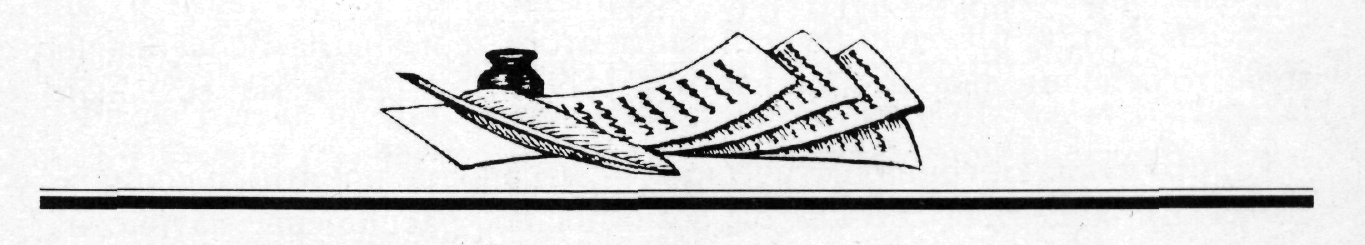 Мы читаем книгу «Слово о слове»... Хочется записать одну мысль. Мы читаем книгу «Слово о слове», и там есть утверждение, что без слов не может быть мышления [...], и автор как раз подчеркивает невозможность отвлеченно мыслить, без слов. А мне вспоминается, что когда мы упражнялись в рисовании с натуры по памяти, то ставили перед собой модель на 10 или 15 минут, а затем рисовали уже без модели. Причем, если ты старался запомнить то, что видел, при помощи слов, то у тебя ничего не получалось, получалась, собственно, схема. И только если, не называя, сохранял в памяти какое-то впечатление от движения, от характера, то получался, может быть, не очень законченный, но правдивый рисунок. Другой опыт такой: попробуйте запомнить цвет при помощи слов у вас получится схема цвета, упрощенное представление о цвете, а цвет с его всей сложностью и влиянием на него фактуры можно запомнить только без слов, никакие слова не передадут всю сложность и частность его характера. Из этого можно вывести, что можно мыслить без слов, образно. И очень важно, чтоб теоретики искусства учли бы это. (Между прочим, многие ощущения не поддаются словесному фиксированию, хотя бы вкус.) Тут, может быть, и мешает то, что слово делает явление отвлеченным, что и является преимуществом в отвлеченном мышлении. Из этого всего следует, что тему или идею, когда мы берем словесно для какого-то изображения, мы должны как бы опустить обратно в бессловесное мышление для ее конкретизации, для ее обогащения. В этом, может быть, заключается вред литературщины в изобразительном искусстве. 15 февраля 1957 года 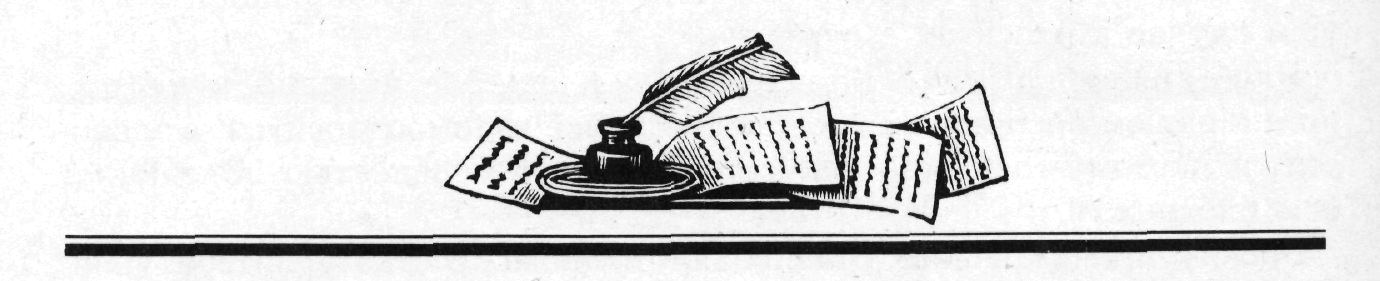 Выступление на Первом Всесоюзном съезде советских художников В последнее время мы все больше и больше понимаем, что все искусства связаны друг с другом и что одни искусства зависят от других и друг на друга влияют. И мы приходим к мнению, что нет незначительных областей искусства. Поэтому разрешите мне коснуться разных областей искусства. Сейчас повсюду идет дискуссия о социалистическом реализме. И мне представляется, что если первая часть этого термина нам совершенно ясна, то относительно второй части — собственно реализма, есть неясности. То, что реализм социалистический,— это вполне понятно в социалистическом обществе. Это как бы сознательное расширение патриотизма. Может быть русское искусство, русский патриотизм, есть социалистический патриотизм. Но мы видим, что термин «социалистический» применяется к прозе и меньше — к поэзии, не применяется к архитектуре и применяется к музыке, применяется к станковым картинам и никогда не применяется к декоративному искусству. Правильно ли это? Разве не правильнее было бы применить этот термин ко всем областям нашего искусства? — это соответствовало бы серьезности нашего отношения ко всем областям искусства и признанию того, что в основе всех искусств лежит стремление к художественной правде. Начнем с декоративного искусства. На этом фронте мы имеем целый ряд замечательных художников. В области фарфора и керамики есть художники с монументальным уклоном и много замечательных миниатюристов. Есть художники по росписи фарфора, интересные и разные, есть по стеклу, дающие очень смелые и интересные решения. Есть замечательные художницы-текстильщицы, добивающиеся в простой ткаческой технике богатых и сложных решений, есть — по росписи тканей, есть у наших художников серьезные работы по коврам, есть интересно и смело работающие художники по костюму. Это мы могли видеть на недавней декоративной выставке. Есть много художников, серьезно работающих над интерьером, но это большей частью не бытовой интерьер, а выставочные павильоны и залы. Словом, персонально фронт декоративного искусства довольно богат и персонально талантлив, но если мы предъявим к нему требование об оформлении быта, социалистического быта, то мы увидим, что в этом смысле ничего не сделано. Надо сказать, что сами художники-декораторы часто в таком плане и не мыслят, и многие их интересные решения, идя в производство, не оцениваются и искажаются. Декоративный ширпотреб очень и очень неудовлетворителен, особенно если взглянуть с точки зрения потребностей социалистического общества. Но и сами художники иногда грешат украшенчеством и в этом качестве не соответствуют высоким требованиям, которые к ним мы должны предъявлять. Относительно кустарных промыслов мы можем видеть во многих случаях, к сожалению, как прежнее отношение к материалу и форме теряется в кустарном ремесленничестве и здесь мастера впадают в мелочность и украшательство. Но будет неверно, если мы будем искать причины недостатков декоративного искусства только в декоративном искусстве. Мы должны понимать наш фронт искусств цельным и должны взглянуть, что делается в станковом искусстве. Можно представлять станковиста как узкого специалиста картинного цеха, не знающего ничего, кроме своего узкого ремесла, а можно иначе понимать роль такого художника. Ведь живописец непосредственно встречается с натурой, он развивает свое видение натуры, он учится пластически мыслить — не фантастически, а исходя из правды натуры. И, в сущности, в таком качестве он не только создатель больших полотен, но и открыватель нового цветового и пластического видения, и он должен своим искусством питать все области искусства, между прочим, и декоративное искусство. Ему много дано, много и спросится. И у нас есть художники, которые соответствуют такому высокому назначению, есть произведения, достойные нашего социалистического общества. Но мы встречаем иногда тенденции ложные, [когда говорят] о некоем объективном, якобы реалистическом методе изображения натуры. Мы признаем неразрывность содержания и формы, мы часто говорим о содержании, но почти никогда о форме, а мне представляется, что если высокие требования, которые предъявляют к нам народ, партия, время, нас обязывают, то как специалисты мы должны чувствовать большую ответственность за формальную сторону. И если идею находим мы в жизни, в жизни нашей страны, то в смысле формы мы должны быть на высоте. И главное, наше искусство дает нам возможность встречи с натурой в живописи или скульптуре, в этюде, где художник учится пластически мыслить. Существуют простые слова, живущие среди художников, это — отношения цвета, пропорций и цельность. Это почти банальные слова, но они предполагают, что натура динамична и наше восприятие ее проходит во времени, в движении, и поэтому необходима цельность, если мы хотим пластически понять натуру. Между прочим, когда я искал примера вообще не цельного подхода, то представил себе статистика, бухгалтера и потом, к стыду своему, прочел в газете, что колхозный бухгалтер должен цельно понимать хозяйство кооператива. Этому совершенно противоположно понимание некоего объективного изображения, верней — копирование природы, якобы точное, но, главное, выключающее движение и в натуре, и в нашем восприятии, чему, собственно, учит фотография. Я попросил бы всех вас закрыть один глаз и поглядеть, а потом открыть. Какая разница? Вот это — одноглазое зрение, а это — двуглазое. Двуглазое уже содержит движение. А как его изобразить? Как это называть — фотографизм, натурализм, иллюзионизм — все равно, но во всяком случае это пассивное копирование натуры, и беда в том, что оно пассивно, остановлена натура, остановлен художник, все можно проверить способом проекции, все можно измерить, все точно, все объективно, и если художник делает это очень детально, то он мастер. Если принять это за реализм, то некуда деваться, всем художникам надо одинаково рисовать, одинаково писать, одинаково видеть. Точность должна измеряться цельностью. И только если мы признаем, что нам нужно понять в натуре отношение вещей, планов, цветов и т.д., которые друг с другом спорят, стоят в противоречии, то только тогда возможно, по-разному понимая натуру, по-разному приводя все явления к цельности, иметь в нашем искусстве разных и хороших художников. И только таким образом добываются сокровища формы. Вот тут мне хочется немного остановиться на том, что иногда проскальзывало такое, для меня немного страшное, заключение, чтобы менять натуру, что-то добавлять к натуре и т. д. Нужно ли это? Если мы воспринимаем натуру во времени и в пространстве и, кроме того, мы должны изображать в материале, на основе которого мы строим, метафору образа, то что тут можно менять? Просто нужно видеть и создавать цельное произведение. Между прочим, здесь хотелось указать, что живопись часто сравнивают с литературой, а почему не сравнить ее с музыкой? Есть слух вообще, а есть музыкальный слух; есть зрение вообще, а есть художественное зрение. И зрение тоже является объектом искусства. Так как мы работаем над цельностью нашего видения, то введение субъекта в искусство с его законами восприятия натуры — это вовсе не субъективизм. У Гончарова во «Фрегате «Паллада» есть место, где писатель говорит: «мимо нас проплывали острова...» Что это — субъективизм? — нет, это живое восприятие явления. Надо сказать, что такое вышеупомянутое якобы объективное изображение действительности, а вернее копирование, принесло большой вред, поскольку его пытались превратить в единственный способ изображения натуры, исключая тем всякую художественность, всякую декоративность в изображении. Пытались навязать всем этот способ изображения, и это вредно повлияло на декоративное наше искусство. И, между прочим, ложно повлияло на массового зрителя, дезориентировало его. Мы видим иногда, что зритель проверяет большое искусство фотографией, такие вещи, как живопись Крымова, Чуйкова, Пластова и других, не понимая, называет мазней. А другие группы зрителей бросаются на произведения, произвольно искажающие действительность (как Эрьзя и Глазунов). Пассивное копирование располагает к произволу. Так как в самом методе нет художественности, то авторы для подобия искусства искажают произвольно натуру. Копирование и произвол живут всегда рядом. Тут мне хотелось бы сказать о зрительном, художественном воспитании. Начиная с детских лет и кончая вузом, надо воспитывать действительное понимание художественных произведений, и в этом смысле, конечно, какая-нибудь очень глубокая и содержательная картина - может трогать зрителя просто рассказом. Но нам можно меркой эстетического понимания поставить восприятие массовым зрителем такого скромного по виду художника, как Крымов, такого скромного по виду, но полного музыкальности скульптора, как Матвеев. Если их будет понимать массовый зритель, это будет уже предел. Отвергая сложность, двигательность и противоречивость восприятия нами зрительной натуры, подчиняясь неподвижной проекции, такой метод не признает и сложного конфликта между изображаемым и изобразительным материалом, изобразительной плоскостью, холстом, бумагой, камнем и т. д. Ведь надо изобразить глубину на плоскости. И действительно, реалистическое искусство решает этот конфликт сложно — и сохраняя плоскость, и углубляя ее, а фотографический реализм спокойно уничтожает плоскость. И поэтому в таком методе нет никакого внимания к материалу как участвующему своими качествами в изображении. Отсюда в декоративном искусстве распространяется во многих вещах иллюзионизм, все становится не продукцией, а репродукцией. Все репродуцирует натуралистическую живопись. Всюду — в коврах, в металле, в книге, в фарфоре, как вы слышали — ив театре, даже в стенной живописи и мозаике пытались это ввести. Словом, такой подход к натуре ничего не мог дать всему фронту искусства. Но и в станковом искусстве он не более полезен. Мы можем различать два рода картин. В одних мы встречаем рассказ о каком-либо случае, в других мы видим большее, чем рассказ. Рассказ есть и у Рембрандта, но у него есть и еще что-то, и «что-то», составляющее основу художественного произведения. Я бы назвал это «пластическая идея». Не настаиваю особенно на термине, но желаю, чтобы вы это поняли. Суриков, как вы знаете, хотел написать картину «Ольга ждет на берегу Днепра тело Игоря». Есть несколько эскизов, и, говорят, плавая по Волге на пароходе, он увидел на луговом берегу татарок, сидящих по-восточному и ждущих парохода. И в этом он нашел тот минорный строй, который был ему нужен. Вот, мне кажется, рождение пластической идеи. Пластическая идея обладает своим характерным ритмом, и она роднит станковое искусство с декоративным, так как и там и тут мы ее встречаем, и наличие ее в декоративном искусстве позволяет нам говорить о реализме этого искусства, о тематичности и избежать голого украшеньичанья. Все, что я говорил здесь о живописи, касается также и скульптуры. Мне кажется, что есть художники, которые стоят крепко на двух ногах. Это такие, как Сарьян, как Лев Александрович Бруни, как Иван Семенович Ефимов (скульптор),— это реалисты несомненные и в то же время музыкальные. Вообще мне очень хочется заменить термин «декоративный». Ну, [они] все «декоративные» и в то же время они очень народные, их искусство прямо связано с народом. Под конец мне хочется сказать о следующем. Много достижений в нашем искусстве, но много и недостатков, и, чтобы их изжить, кроме многих идеологических и организационных моментов, необходимо одно - это доверие к художнику. Нужно доверять художнику в его встрече с натурой, так как тут он через субъективное добивается объективного. Нужно доверять художнику, когда он берет разный и иногда неожиданный материал для воплощения своей идеи и необычную форму для этого. Нужно доверять художнику в участии его в синтезе искусств. Нужно, чтобы, например, художник-монументалист нашел свое место и в создании дворцов, и типовых зданий. У нас здесь были архитекторы, они нас как-то обнадежили, а в общем можно сказать, что пока что монументалисты находятся в подвешенном состоянии, земли они не касаются. Нужно, чтобы художник был учтен и во всех производствах, в которых сколько-нибудь должен участвовать художественный вкус и должна создаваться какая-либо художественная форма: в текстиле, керамике, посуде, интерьере, промышленной графике, во всем быту, и без художника ничего бы не решалось, потому что, если будут ошибки, то мы будем знать, кто ошибается. А сейчас так много участников, и часто профанов в вопросах искусства, что иногда неверному решению не найдешь начала! Конечно, у нас много достижений, но если мы ставим перед собой высокую задачу оформления социалистического быта, то много еще не сделанного. Но мы активно выясняем наши недочеты. Так будем работать и работать! [Кон. февраля] 1957 года 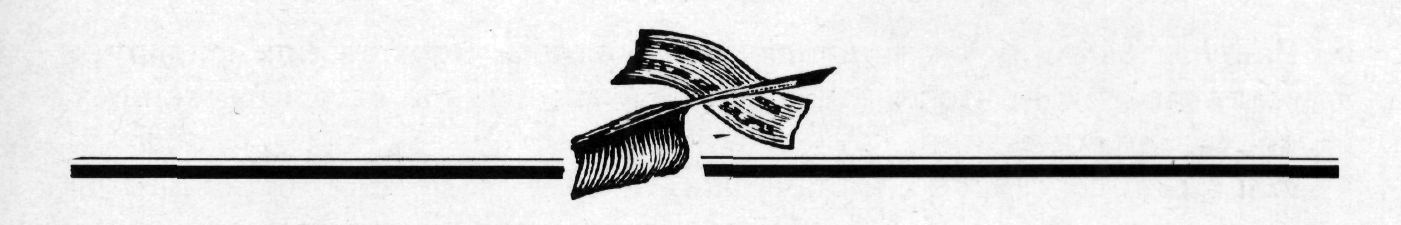 Воспоминания о профессоре Холлоши В 1905 году, будучи 19-ти лет и окончив гимназию, я поехал в гор [од] Мюнхен, чтобы учиться живописи. До этого я учился у своей матери, Ольги Владимировны, и ходил по вечерам и по воскресеньям в студию Юона, где рисовал натурщиков. Но там мною руководил главным образом товарищ Константина Федоровича Юона — Дудин, очень простой, но правдивый преподаватель. Попав в Мюнхен, я искал, куда поступить. Тогда знаменитая частная академия (как это там называлось) Ашбе была уже под другим руководством. Сам Ашбе умер. Не помню сейчас, по чьей рекомендации я попал к Холлоши. Там я встретил целый ряд русских, между прочим, Истомина. У Холлоши вообще русских всегда было довольно много. При мне у Холлоши из русских были: я, Истомин, Розенфельд, Баранов, Коровин и Кравченко, Орнатская, Грузенберг и др[угие], изармян Петрос Томборов, Нина Есаева и Нина Бебутова. Кравченкобыл очень недолго, он ушел после первого столкновения с Холлоши, так что мы не считали его учеником Холлоши. Одно лето у Холлоши был Всеволод Сергеевич Шервуд и другое — Т.Грушевская и С.Тиль. Вспоминаю первые встречи с Холлоши. Я знал немецкий язык, так что мы с ним могли непосредственно разговаривать. Я думал, что я рисую прилично, меня похваливали, у меня всегда было сходство, я только не знал, что же дальше делать, и все уходил в детали, и мне уж иногда говорили, что это сухо, а я не знал, а что же вместо сухо. И вот, когда я начал рисовать у Холлоши, он стал довольно резко критиковать меня, указывал, что я занимаюсь перечислением пятен, что мои рисунки не цельны, нет общего и детали не входят в целое. По-этому он требовал от нас прежде всего наброска, в котором были бы схвачены основные моменты, движение, отношение масс. Он это очень решительно требовал, и не только от меня, но и от других русских, которые со мною поступили. Это для нас было неожиданно и с первых разговоров непонятно, и мы задумались. Знакомые художники уговаривали нас уйти от Холлоши, считали, что он нас запутает. Мы решили уйти. Но уйти просто нельзя было, нужно было Kundigen, то есть заявить за месяц о своем уходе. Так и сделали, но продолжали рисовать и слушать Холлоши, а он не ослаблял нажим на нас, критиковали указывал наши недостатки. И мы в конце этого месяца что-то поняли, нам открылось, что рисунок не может делаться пассивно, только по принципу схожести, что, изображая что-либо, мы берем на себя громадную ответственность — понять натуру и изобразить ее возможно цельнее. И нам открылось, что ничего нет интереснее и увлекательнее, чем понимание натуры, и ничего нет труднее передачи этого в рисунке. Раньше я иногда скучал, рисуя натурщика, портрет или фигуру, и думал, что нужно что-то выдумать, чтобы рисунок был интереснее. Теперь это отпадало. Мы были, собственно, мальчишки, и у нас было много наивного, но тем более страстно отнеслись мы к новому для нас, что нам приоткрыл Холлоши. Я разрешу себе в связи с этим помянуть некоторые наши мальчишества. Однажды, когда одного из наших старших товарищей покинула жена и он очень страдал, мы его утешали, что ведь она была неважной художницей. Для нас тогда искусство было высшим, если не единственным мерилом во всем. Год или больше спустя появился у нас в студии русский отставной офицер, он был нервнобольной, и живопись должна была его лечить. Он садился на складной стул в пейзаже и говорил: «как хорошо, я во все стороны могу пейзажи писать». Мы ужасно возмущались и, будучи безжалостными мальчишками, старались разъяснить ему, что он делает ужасный грех перед искусством, так пассивно и ремесленно занимаясь живописью. И в конце концов растревожили человека. Помню такой эпизод: я довольно хорошо говорил по-немецки, и Холлоши употреблял меня как переводчика, когда приходил какой-нибудь новый русский поступать в студию. И вот однажды меня позвали, Холлоши разговаривал с какой-то очень молодой русской дамой. Она сказала, что хочет поступить в студию, что она, собственно, рисовать умеет, а ей нужно научиться живописи акварелью. Я перевел все это Холлоши. Он велел мне спросить даму, сколько ей лет. Я спросил, она немного смутилась и улыбаясь сказала, что ей 23 (кажется). Тогда Холлоши велел ей передать, что принять ее не может, так как ему уже 50 лет, а он рисовать еще не умеет, пусть она уходит. Конечно, я это передал с удовольствием, считая, что она, конечно, недостойна войти в нашу студию. Это все ужасно наивные как будто вещи, но они в то же время свидетельствуют о том высоком отношении к искусству, которое было в нашей студии и которое мог зажигать в нас и воспитывать Холлоши. В те годы у Холлоши программа была такая: 2 года рисунок и затем 2 года живописи, но нам, мне и Константину Николаевичу, он разрешил один год рисования и потом перейти к живописи. А расписание, если не ошибаюсь, было такое: от 9 до 12 рисунок или живопись — длительная постановка; затем перерыв, и с 2 до 5 часов то же; затем опять перерыв, и с 7 до 9 часов наброски. День был очень насыщен, особенно если принять, что мы с Константином] Николаевичем] бегали еще в университет слушать профессоров Фуртвенглера и Фол-ля, которые читали очень интересные лекции по искусству, и к Молье слушать его лекции по анатомии, которые он читал для студентов Академии искусств. (Между прочим, помню интересный эпизод. Студенты Академии протестовали против нашего присутствия и выгоняли нас, Молье, услыша об этом, возмутился и сказал, что всякий, кому интересно, может слушать, и мы слушали.) Холлоши относился к нам строго, и первый год никогда мы у него не были на квартире, и он не показывал нам свои работы. Я помню такой случай. Один из наших товарищей был влюблен, он часто влюблялся и страдал сильно и плохо работал, и когда Холлоши приходил, а он приходил два раза в неделю, то товарищ наш сидел на скамье у стены и не подходил к своей работе, так было несколько раз, и Холлоши тогда через обмана, по-нашему — старосту, передал нашему товарищу, чтобы он уходил из мастерской. Мы с Константином Ник[олаевичем] пошли на квартиру к Холлоши и рассказали ему, что тов[арищ] влюблен, поэтому так плохо работал, а теперь обещается быть прилежным, Холлоши согласился оставить его. Я думаю, что Холлоши за свою долгую преподавательскую деятельность несколько по-разному преподавал искусство, в зависимости от того, кто у него учился. В наше время уже многие его ученики, окончив у него, работали в Париже и приезжали к нему и показывали свои работы, и французы на него тогда влияли, у нас все время о них шел разговор. Его живопись мне представляется в чем-то схожей с Ван Гогом, сперва довольно темная, потом все более красочная. Холлоши много с нами разговаривал о старых художниках, о Веласкесе и других, о французах, о Сезанне. И часто указывал нам на Ханса фон Маре. Под Мюнхеном, в загородном дворце Нимфенбурге было собрание, и довольно большое, художника Маре. Холлоши нас туда посылал и после спрашивал, что мы поняли и что нет, как нам понравилось? В студии подход к натуре был строгий, даже суровый. Когда на наброске какой-нибудь натурщик позволял себе вычурную позу, то наш обман, который на наброске ставил модель, презрительно улыбался* и ставил позу простую. В живописи яркие и вкусные краски обходились, так, например, краплак не почитался совсем, а предпочиталась сиена жженая. Главным моментом, на котором останавливали наше внимание, была цельность, цельное видение натуры; иногда он отвлекал нас в сторону анализа фигуры, анатомического анализа, но цельность доминировала при этом в рисунке, в наброске, в портрете, а также в живописи, все время обращалось внимание на пространственную выразительность, а в цвете — на простые отношения и на крепость цвета, он часто подносил к твоему этюду свой загорелый кулак. Сам Холлоши был очень интересный по виду человек, очень смуглый, с черными глазами и волосами, свешивавшимися челкой на лоб. Такая квадратная, очень выразительная и скульптурная голова. Писали мы по большей части на картоне, и вот пишешь, пишешь, а он придет и начнет поправлять прямо углем по живописи или тебе скажет, чтобы исправил рисунок углем, и посмотрит и потом разрешает дальше писать. Летом студия переезжала в деревню в Венгрию, в местечко Течё, там писали на воздухе на берегу реки под навесом, и сам он там много писал пейзажей. Это предгорья Карпат и река Тисса в своих верховьях. Место очень интересное. Интересный пейзаж, небольшие горы и громадные буковые леса, интересные люди: венгры, русины, румыны, евреи, цыгане; все это очень красочно, особенно в базар. Для характеристики населения этих мест и отношений венгров, румын и русин интересна следующая легенда (русины в этих местах униаты и праздники у них — по-православному позже на 13 дней), и вот, чтобы объяснить это, такая легенда. Порядок праздников у всех перепутался, и все пошли к папе в Рим, чтобы установить порядок. Венгршел в сапогах, румын босиком, а русин в постолах, и у него все время оборки развязывались, он их завязывал и опоздал на 13 дней, ему и установили праздники на 13 дней позже. Интересные животные — громадные быки светло-серые с колоссальными рогами, буйволы, великолепные венгерские кони и маленькие горные лошадки, рыжие свиньи. В воскресенье Холлоши иногда устраивал прогулки в лес. Разводили костер и жарили на палочках сало. Холлоши к самым простым вещам относился очень серьезно. Он очень презрительно смотрел на человека, который не умел развести костер, не умел обращаться с топором и т. п., для него разум в человеке должен был выражаться и физически, тело должно было тоже быть умным. Вспоминая все это, вспоминая мою встречу с Холлоши в дни моей молодости, когда я только-только вступал в искусство, я обращаюсь к его памяти с глубочайшей благодарностью. Конечно, не один он меня учил и воспитывал, но он первый приоткрыл мне дверь в искусство и научил искать в натуре художественную правду, за что я всегда буду ему благодарен. 28 марта 1957 года  В чем суть искусства Во время Первого съезда художников мы, делегаты, в свободный вечер ездили на встречи в университет, в Третьяковку, к военным. Я ездил с группой в университет. Там мы рассказали о том, что мы делали на съезде, о том, к чему пришли, а студенты задавали нам всяческие вопросы: о том, как мы относимся к Эрьзе и Глазунову, какое самое последнее определение социалистического] реализма, как относимся к Врубелю и т. д. и т. п. Я отвечал на свои записки, но я, между прочим, получил вопрос: «в чем суть искусства?», и на этот вопрос не ответил, я боялся, что в такой краткой беседе трудно будет объяснить. Но теперь, спустя некоторое время, мне, казалось бы, можно было бы студентам ответить. Ведь очень важно исходить из того, что близко слушателям, и в данном случае — студентам-биологам, все-таки людям ученого мира. Мне теперь кажется, что начать с ними нужно бы было с вопроса, что они считают самым удивительным в своей науке. Я думаю, на это можно ответить так: самое удивительное — это бесконечность и непрерывность материи, с одной стороны, и, с другой — отдельно существующие организмы, отдельные существа. Подобно этому и в искусстве — непрерывное пространство и предмет, их связь, их взаимоотношения и противоречия составляют основную тему искусства. И синтез предмета и пространства, разный в разные эпохи, и представляет стиль эпохи. Это самое нутро искусства, самое святая святых, но при этом, как и в науке, нельзя отказываться от чисто практического значения художественного произведения, пускай прикладного, пускай служебного. 5 апреля 1957 года 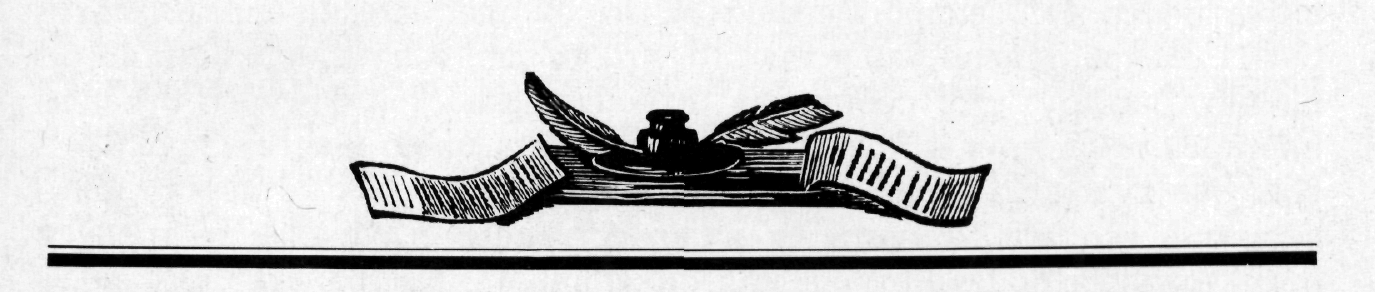 Некоторые мысли о нашем искусстве Иногда хочется взглянуть на весь фронт нашего изобразительного искусства и подумать о нем. Как будто сегодняшний день должен располагать к этому, располагать к широкому охвату различных моментов изобразительного искусства и связи их друг с другом. Действительно, связаны ли у нас в нашей практике такие дисциплины, как рисунок с натуры и этюд, с созданием картины, с композицией; с другой стороны, влияет ли в нашем искусстве станковая картина на монументальное искусство и обратно, и влияет ли станковая живопись на декоративное искусство? Конечно, это отдельные дисциплины, имеющие свои особенности, но они должны быть связаны друг с другом, должны влиять друг на друга. А этого как раз нельзя сказать про наш изобразительный фронт в целом. Конечно, есть исключения, но, мне кажется, именно исключения, а, как правило, эти дисциплины не связаны друг с другом и друг на друга не влияют. Например, взять хотя бы рисунок. В журнальных статьях уже начинают говорить, что для разных задач должен быть разный рисунок, но большею частью понимают рисунок как почти техническую дисциплину, позволяющую объективно видеть натуру, независимо ни от каких условий восприятия. И мне приходилось слышать, что если у раз-личных художников может быть различная живопись, то рисунок должен быть для всех одинаков. Отсюда, между прочим, возникает вопрос, как же быть дальше; если рисунок с натуры передает ее совершенно точно, то как же быть с художеством, в чем же художество, как же использовать этот рису нок в композиции? И тогда предлагалось, чтобы художник не передавал бы всю правду, а как бы искажал то, что видит, изменял бы соответственно своему «художественному» вкусу. И некоторые даже рекомендовали изменять чуть-чуть, это считалось художественным и правильным. То есть предлагался произвол, и только через произвол надеялись достичь художественности. Про школу утверждали, что нужно учить объективному, почти техническому рисунку, а уже выйдя из школы, художник волен изменять натуру. Таким образом, рисунок совсем не вел к композиции, не вел к картине, не заключал в себе уже художественного подхода к натуре и не добывал во встрече с натурой композиционные принципы, которые должны помочь в создании композиционных произведений. А кажется просто. Искусство — это особый метод познания действительности. Особенность его в том, что он пластически познает натуру. И следовательно, если так, то, чтобы нарисовать, нужно понять, оценить натуру; уже пропорции, отношение частей фигуры, отношение предметов друг к другу, отношение их к пространству, зрение — требуют художественного подхода; и ведь требуется не просто фиксировать все эти моменты, а художественное изображение требует от художника понять отношения, пропорции, пространство как цельность; в этом и есть смысл изображения. И тогда связь рисунка с композицией будет осуществляться. Мы в результате изображения натуры, ее характера, ее образа достигнем цельного видения — то, что нам крайне необходимо в композиции. |
